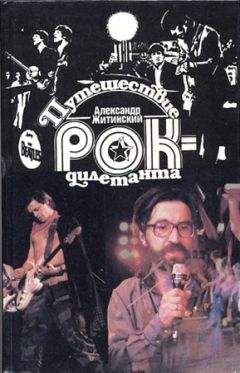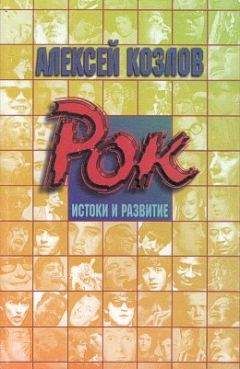Андрей Машнин
Женя с Дусером начали свой звездный путь в составе Tequilajazzz, а мы с Дроном стали думать, как жить дальше. И вот опять как-то вдруг, холодным осенним вечером 94-го года, зашли в старый добрый Рок-клуб и повстречали там нашего Диму Винниченко, а с ним и Григория Сологуба. Через неделю мы уже вместе начали репетировать в “Горе”, причем продюсером нашим стал также бывший камчатский кочегар Сергей Фирсов.
Первый раз мы выступили на открытии студии ЛДМ, и сразу же со скандалом. Мы там спели рэп, где матюгов было, наверное, больше, чем нормальных слов (как и полагается по закону жанра), а потом еще и драку устроили посреди зала. А там такие все в красных пиджаках, секьюрити сбежались, разобрались потом, что мы не виноваты были.
Еще позже был скандал на “Радио ‘Катюша’”, когда там прокрутили запись нашего концерта в “Там-Таме” целиком – неожиданно даже для нас. Я сам на кухне, помню, сидел, слушал, думаю – ничего себе! Вот ведь радио какое прогрессивное. Мне прилепили ярлык “героя ненормативной лексики”, хотя мы потом завязали с этим делом.
В общем, выступили мы раз десять с этим составом, записали в Wild Side второй альбомчик “Трезвые-злые”, ну и тут лето, поразбрелись все куда-то, денег не было, котельную уже тогда разогнали, сидели мы все без работы, так вот и зачахло дело.
(Из статьи “История “Машнинбэнда”, рассказанная им самим”, самиздатовская газета “Ниоткуда”, август 1996 года)
Наталья Чумакова
Я уехала из Москвы, вернулась в Новосибирск и в Петербурге бывала наездами, так что переход Андрея к электричеству стал для меня сюрпризом. В один прекрасный момент я приехала в Питер, а у Машнина уже электрический концерт. Который меня, конечно, совершенно ошеломил. Я же его до этого, наверное, и на сцене не видела, только в “Камчатке”, – ну или, может, на какой-то совсем маленькой. А тут он такое творит! Как будто совсем другой человек. Я его знала своим, домашним, почти мужем моей подруги, то есть было какое-то очень личное отношение, а тут он выходит – стоит шум-скрежет, дикий драйв.
Андрей Машнин
Появился состав, стали репетировать, как отрепетировали – стали играть по клубам. Фирсов нас в Москву повез – там мне ужасно не понравилось, конечно. Да, было два концерта в “Бункере”, который тогда пафосный такой был, они сами немножко удивились, когда нас первый раз услышали со всей этой матерщиной, но потом еще раз позвали. А была еще куча концертов в каких-то забегаловках. Раз был вообще кабак – сцены нет, в углу выдвигается помост на одного человека. Рекламы никакой, мы вечером приезжаем – сидят пять бандитов и просто жрут, шашлычок наворачивают. И тут выходим мы – мол, сейчас будет концерт. Мне бы это не понравилось, ну не к месту как-то. Они посидели, поморщились, потом глядь – слова знакомые пошли: “еб твою мать” и прочее. Ну надо же! Как хорошо зашли! Денег за все это не платили никаких, едва дорога отбивалась, чего вообще ездили? Мне это нахуй было не надо. А музыкантам, видишь, надо. Не такая уж это была и злобная музыка – как выяснилось, когда Ильич появился, бывает и гораздо злобнее. Хотя на тот момент эта программа мне, конечно, казалась достаточно злобной.
Сергей Фирсов
Когда сезон 95-го закончился, всех кочегаров уволили и набрали каких-то алкашей. Не знаю, зачем они это сделали, – на следующий сезон уже опять разыскали Начальника, говорят: “Возвращайтесь, эти ни фига не работают, просто жопа полная”. Мы-то все-таки работали. Хоть умели веселиться, но умели и работать. А эти только бухали, и все. И с 97-го года мы опять вернулись. И работали до 2000 года, пока “Камчатку” как котельную не закрыли, и тогда мы уже стали делать из нее клуб. А Машнин, когда уволился, пошел на какую-то стоянку и год или два работал там сторожем. Песни на работе сочинял.
Андрей Машнин
Ильича привел Гриня Сологуб, привел как второго гитариста. Он попробовал и как-то быстро привязался. Это был год 95-й, котельную как раз разогнали: начальство сказало – мол, надоели танцоры-музыканты, возьмем нормальных пролетариев. И я пошел на автостоянку сторожем, потому что мне еще и учиться надо было. Ильич ко мне туда приезжал с электрогитарой и комбиком. Так и сидели вдвоем, так все “Жэлезо” и было отрепетировано – сутки через трое. Я сижу по стулу стучу, а Ильич на гитаре жужжит.
Сергей Фирсов
Ильич – одиозная личность. Он гитарист, басист, барабанщик – играет на всем. Он, конечно, хороший человек, мы его все нежно любим. Но бывает нудным, навязчивым, иногда достает сильно. Никогда нигде не работал. Постоянный халявщик. У него трое детей. Три жены бывшие. С очередной новой женой молодой он и уехал в Самару – она его увезла.
Александр Долгов
Эта история создавалась на моих глазах. Застрельщиком идеи был Сергей Фирсов, который смог убедить Олега Грабко в том, что это может быть востребовано. Как я представляю, мысль строилась следующим образом: есть Rollins Band, который уже привозили в Россию. И это был русский, даже конкретно питерский ответ “Роллинзу”. Конечно, это был эксперимент: рок-бард сигает в штаны альтернативы. Так что “Машнинбэнд” можно назвать в чем-то продюсерским проектом.
Владимир “Вова Терех” Терещенко
В 90-х я оказался по издательским делам дома у Фирсова, мы стали общаться, и он говорит: давай я покажу, что у нас сейчас в Питере крутое. И ставит на видеокассете “Машнинбэнд” – мол, вот это у нас сейчас самое крутое. Дрожащая камера, все мигает и пикает, грохот и пердеж. Я думаю: ни хрена себе, какой-то грайндкор и какой-то пухлый очкарик поет. Фирсов говорит: это наш настоящий питерский антигерой. Типа Генри Роллинз – это такой герой хардкора, а это антигерой. В очках, ботаник, но при этом смотри какая сермяга, правду-матку рубит. И, когда я уже уезжал, он дал мне кассету с надписью “Машнинбэнд”. На, говорит, послушай. Я послушал, все было очень круто и качественно.
Андрей Машнин
Фирсов взялся за продюсирование, свел нас с “Бомбой-Питер”, с Олегом Грабко – и он почему-то за нас вписался, в том числе и финансово. На “Жэлезо” он нам дал 500 баксов – вот вам деньги, вот вам студия. Причем студия мажорская, в ДК Ленсовета, там время дорогое было по тем временам. А нас всего двое с Ильичом, и я вообще играть не умею. Приходим на студию. Ну все, время пошло, бабки капают. Надо писать – а как писать-то?! Начали с барабанов, я чего-то в микрофон балаболю, Ильич стучит. Абсолютно криво все, не в кассу – день потратили на это. В результате писали его от гитары, а сверху уже барабаны и бас – наугад записали то есть. Там, конечно, чувствуется, что не группа играет, но вообще это уже классно было: нормальный альбом, тексты, которые мне самому нравятся. Мы к тому времени слушали уже Rage Against the Machine, всю такую музыку.
Олег Грабко
Если честно, поначалу у меня просто было свободное время и желание сделать что-то хорошее в альтернативе. “Жэлезо” писалось очень долго. Ленька Федоров нам помогал, он был как бы таким креативным продюсером – давал советы, сидел на студии, мы с ним ругались, переписывали по десять раз… Но альбом по звуку все равно плохой. Там еще такая история случилась: Ильич записал барабаны, сверху бас, мы приходим с Федоровым, начинаем слушать – и я вижу, что он не попадает, бочка отстает немножко. Подвинули. Приходит Ильич: “Уроды! Вы ничего не понимаете, это же грув! Слушайте нормальную музыку!” Ну, мы извинились, поставили все на место. Но все равно альбом какой-то ненастоящий получился.
Владимир “Вова Терех” Терещенко
Как-то в студии мы писали “Ривущие струны”, и гитаристка Катя говорит: “Вован, хочу тебя познакомить с обалденным музыкантом, который тусуется у нас на студии, послушал, что вы пишете, и хочет у вас сыграть”. И знакомит – вот это Ильич. Я спрашиваю: кто, откуда, что почем? Он говорит: “Я играл в “Машнинбэнде”, сейчас вот в Москву приехал”. Я говорю – у вас классная банда, ты классный музыкант. А он – у нас не было банды, я один на всем сыграл. И тут я припупел. Я вспомнил, что, когда слушал, обратил внимание – классно играют. И думал, что это группа. А оказалось, в студии один человек был.
Андрей Машнин
Я просто счастлив, что он вышел. Потому что это НА– СТОЯЩИЙ альбом, с которым мы выступаем. Мы его писали на “Добролете”, недели две где-то. Причем я только пел, а Ильич только играл. Есть такой Дима Матковский из “Аукцыона”, он послушал и тут же стал мне звонить на работу, чтобы выразить восхищение. “Я, – говорит, – сам писал наложением, но чтобы такую музыку один человек записал! Просто не понимаю!”
(Из интервью Екатерине Борисовой, журнал Fuzz, сентябрь 1997 года)
* * *
“Машнинбэнд” стал новым словом в российской альтернативе, причем в самом прямом смысле. Тяжелая здешняя музыка в ту пору в лучшем случае представляла из себя радикальный балаган в тамтамовском духе, в худшем – безоглядное копирование зарубежного рэп-кора, обогащенное дополнительным пафосом, тексты звучали соответствующие, и слово “мазафака” в них встречалось куда чаще, чем родная речь. Рок-клубовский опыт Машнина, совмещенный с электрической яростью нового времени, дал феноменальный результат, непохожий на то, что пели и в прошлом, и в настоящем. Такие тексты, наверное, мог бы исторгать из себя герой Майкла Дугласа из фильма “С меня хватит”, белый воротничок, которого свела с ума перегруженная и враждебная городская среда, – только с поправкой на то, что среда эта была петербургская, а вторая столица в те годы как раз прочно завоевала себя гордое звание первой по части криминала. “Импотенты мечтают о чистой любви / Педерасты вспоминают пионерские зорьки / Дембеля и те протыкают дни / И только этот Маугли без сантиментов. / От двух вещей он приходит в раж: / От сырого фарша / И музыки гранж”: истошные слова Машнина прорывали плотную ткань грозного и грязного звука, как проникающие колюще-режущие, вторгались в уши, как приговор реальности, как констатация генерального поражения в борьбе человека со зверем в самом себе, как запоздалое предупреждение об опасности, что кроется за каждым углом, под каждой подушкой и каждой чисто выглаженной рубашкой. При всем при том было бы неточно упрекать Машнина в целенаправленной агрессии: эти песни были именно что самозащитой, существовали в ситуации “весь мир идет на меня войной”, и их надрывная мощь, зашкаливающая громкость, безоглядная свирепость рождались именно из обреченности, из осознания собственного бессилия. Тексты Машнина – это в некотором смысле последний хрип гуманиста, поэтический теракт, возникший в ситуации, когда все остальные методы воздействия казались бессмысленными. К его литым и лютым чеканным строчкам, кажется, хорошо подходит старый пассаж Герцена: “Мы, недовольные, неблагодарные дети цивилизации, мы вовсе не врачи – мы боль; что выйдет из нашего кряхтения и стона, мы не знаем, – но боль заявлена”.