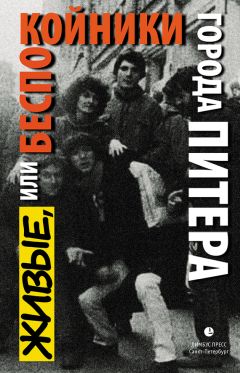Можно сказать, что, создавая натюрморт, Пти-Борис стремился, подобно метерлинковской фее Берилюне, освободить души предметов. И в первую очередь выпускал на волю Душу Света. Свет в его натюрмортах иногда служит не только средством, но и объектом изображения.
Натюрморт Смелова в сущности бессюжетен. В нем нет рассказа, нет интриги и нет драматургии (в обычном смысле слова). И тем не менее зрители подолгу простаивают перед его работами. Почему?
Взгляд зрителя сначала привлекает какой-нибудь из наиболее освещенных сияющих предметов, затем он скользит к следующему, темному и матовому, от него — к какому-нибудь бликующему хрусталю и так обходит по кругу весь лист, чтобы начать движение снова, но уже по слегка измененной, более извилистой траектории. Именно потому так трудно отходить от этих натюрмортов, что глаз зрителя выискивает все новые ходы и движения и, соответственно, впечатления. Чем достигается этот завораживающий эффект? Четкой, хотя и прихотливой ритмикой расположения предметов, замкнутостью всех основных линий композиции, неукоснительным равновесием размещения масс, света и тени, музыкальным ритмом разбрасывания световых бликов и пятен — и множеством других обстоятельств, которые даже сам фотограф затруднился бы обозначить словесно.
Анри Матисс в своих статьях похожим образом объяснял, как он организует непрерывное циклическое движение взгляда зрителя в конкретных натюрмортах. Стало быть, художник делает это совершенно сознательно. Зачем? Не хочет же он в самом деле заколдовать зрителя и навсегда запечатать если не его самого, то его взгляд в глубинах своего произведения? Нет, конечно. Ответ очень прост: натюрморт подобен музыкальному произведению и должен быть «прослушан» от начала до конца, как соната, со всеми вариациями основной музыкальной темы. Когда разглядываешь хороший натюрморт, всегда кажется, что там, внутри, звучит музыка.
Разные фотографы для разных натюрмортов берут разное количество предметов, у Смелова чаще всего (на переднем плане) их оказывается семь. Не следует, разумеется, напрямую видеть в натюрморте макет музыкальной гаммы, но совпадение все же любопытное.
Большинство своих натюрмортов Борис снимал дома, ставил их не спеша и с любовью, самые известные сняты в уютном эркере дома Жилиной на Восемнадцатой линии Васильевского острова. Эти натюрморты, можно сказать, «хранят тепло рук мастера», и у зрителя возникает впечатление почти домашнего общения с ним.
Иногда процесс постановки натюрморта длился несколько дней, и домашним запрещалось прикасаться к стоящим на столе предметам — на все время работы они становились священными. Однажды Борис в числе прочего поставил вазу с одуванчиками и затем терпеливо ждал, пока они отцветут и превратятся в нужные ему пушистые шары. Борис всегда восхищался Малыми голландцами, и в первую очередь — натюрмортами Кальфа, Класса, особенно теми, где срезанная кожура лимонов свисает с края стола прихотливой спиралью. Разумеется, Пти никаким образом не пытался делать фото-ремейки Малых голландцев, но оглядка на них постоянно чувствуется в его натюрмортах. Под их влиянием он в семидесятых годах стал снимать цветные натюрморты — а ведь никакого «Яркого мира» тогда и в помине не было, все приходилось делать самому, вручную, и процессы проявления пленок и печати были долгими и утомительными. Один из таких натюрмортов у него купил Тимур Новиков.
Произведение искусства в жилье человека — ситуация непростая, в некотором смысле даже трагическая. Будь то фотография или живопись, если в них есть элемент рассказа, этот рассказ прочитывается конечное число раз, после чего отторгается разумом, а самое мощное эмоциональное напряжение постепенно редуцируется, и в конце концов обитатель жилища просто перестает замечать артефакт, даже если это — шедевр. Он попадает в «мертвую зону» восприятия. Чтобы общаться изо дня в день с одним и тем же зрителем, произведение искусства и, в частности, фотография, должно обладать определенными свойствами, прежде всего — иметь ритмическую, музыкальную структуру, и тогда самый мимолетный взгляд на даже хорошо знакомую фотографию вступает с ней во взаимодействие — некое подобие прослушивания любимого, хотя и давно знакомого музыкального отрывка. Хороший натюрморт отчасти напоминает музыкальную шкатулку. Натюрморты Смелова — артефакты счастливые: они камерны, музыкальны и способны вести со зрителем постоянный неторопливый разговор.Смеловский натюрморт до сих пор продолжает жить в петербургской фотографии — на любой масштабной выставке обязательно встречаются работы, где видно влияние Пти— Бориса, от далеких и тонких реминисценций до прямой стилизации под него.
Борис прекрасно рисовал, хотя специально рисунку не учился. Он часто набрасывал на бумаге эскизы будущих фотографий, как натюрмортов, так и городских пейзажей. Один натюрморт он даже прописал маслом. При этом и среди близких друзей не все знали, что Борис рисует, и рисунки свои он почти никому не показывал, боясь заранее выдавать замыслы будущих фотографий. Да и сами фотографии он просто так, по-приятельски, «без дела» показывать не любил, словно опасался, что от праздного смотрения у его работ что-то «убудет». Скорее всего, так проявлялась природная скрытность человека, рожденного под знаком Рыб, тринадцатого марта. Для каждого из друзей и постоянных собеседников у Бори была индивидуальная манера общения. Например, с Граном он охотно беседовал о литературе, и, кроме него, мало кому удавалось вызвать Пти на подобный разговор. Только в семейном кругу он готов был разговаривать обо всем, точнее, все-таки — почти обо всем. Любопытно, что естественная скрытность «рыбки» непринужденно уживалась в Борисе с общительностью, искренностью и бесшабашностью.
Третий раздел смеловской «Поэмы о Петербурге» — его портреты. Они и сегодня на выставках резко выделяются среди других авторов. А в советское время они радикально отличались от тех, что заполняли парадные фотоальбомы и считались образцами для подражания. Академика полагалось снимать в ермолке, размышляющим на фоне книжных шкафов, а на письменном столе красовался образец творчества ученого, к примеру, модель самолета или статуэтка бугая-призера. Агроном снимался поле, озабоченно разглядывая на небе погоду, с колосками в руке, и т. д. Снимок представлял собой рассказ фотографа о портретируемом, и, как ни странно, на этом пути иногда, хоть и редко, возникали превосходные фотографии. Ибо в рамках любого канона, даже самого идиотического, хотя бы раз в сто лет случаются шедевры.
Портреты Бориса поражали зрителя и запоминались разу и навсегда. Для него человек на портрете не объект съемки, а равноправный собеседник. Пти-Боря о нем вообще ничего не рассказывал, а оставлял зрителя наединe с моделью, сам же устранялся из кадра и никак в нем не присутствовал. Зритель мог вступить в диалог с существующим в кадре человеком, либо наблюдать его со стороны. Поскольку у каждого диалог со снимком складывается по-своему, портрет, по сути, при появлении нового зрителя каждый раз возникает заново.
В своих портретах, особенно в портретах пожилых людей, Смелов постоянно расставляет акценты светом, оправдывая (как, впрочем, и в натюрмортах) буквальный перевод слова «фотография» на русский язык — светопись. Из-за этого невольно приходят на память портреты стариков Рембрандта — невольно, потому что ни в рисунке, ни в композиции, ни в фактурной гамме Смелова никакой стилизации под Рембрандта нет.
В портрете Смелова тоже чувствуется влияние Достоевского. Многие персонажи Пти-Бориса вполне могли бы оказаться и персонажами писателя — по душевной напряженности, трагичности, внутренней противоречивости.
Особое место в жизни Бориса занимали автопортреты. Можно сказать, для него они, в отличие от большинства его собратьев по объективу, составляли отдельный, его личный фотографический жанр. Однажды галерея «Дельта» выставила семнадцать автопортретов Смелова, отснятых через сравнительно небольшие промежутки времени примерно в течение тридцати лет — всего лишь семнадцать из существующих на самом деле в большем количестве, и это было зрелище уникальное и захватывающее. Автопортреты — верстовые столбы творческого пути художника; чем энергичнее он развивается, чем стремительнее развивается его вселенная, тем чаще возникает потребность в автопортрете.
Петербург, подаренный нам Борисом Смеловым, — влекущий, трагический, непостижимый и прекрасный, он, этот созданный им город, остается и своеобразным зеркалом, хранящим личность самого художника. Но справедливо и обратное: каждый автопортрет есть интегральный образ всего видимого мира, да и не только видимого — ведь это наиболее метафизический из всех изобразительных жанров.
Какова же расширяющаяся вселенная Бориса Смелова? У каждого ее элемента обязательно есть три грани: интересное, страшное и прекрасное. Эта триада ощущений всегда образует гармоничное целое, но соотношение векторов на каждом этапе разное. В юношеских автопортретах — взгляд внимательный, настороженный, вдумчивый; мир велик, любопытен и страшен, хотя и прекрасен. А вот более зрелый возраст: мир роскошен, богат неожиданностями и безгранично интересен. Страшен тоже, но к этому можно отнестись с мягкой насмешливостью. А в последних фотографиях появляется еще и суровость: оказывается, в мире есть много такого, от чего невозможно отгородиться ни юмором, ни броней творческих состояний.