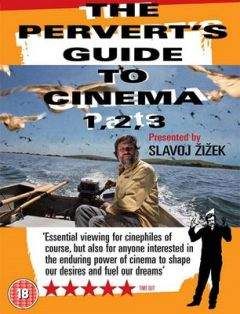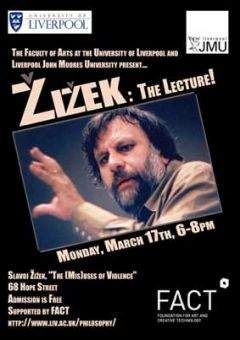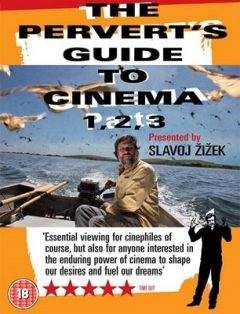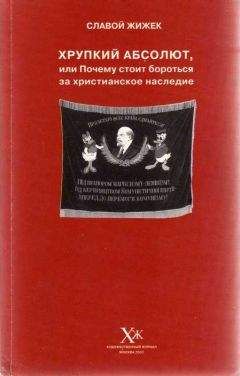Другими словами, рефлексивный уход на позицию абсолютного означает не отступление в бездеятельность, а открытие пространства для единственно подлинного радикального изменения. Важно не бороться с Судьбой (и таким образом способствовать ее осуществлению, подобно родителям Эдипа или слуге из Багдада, бежавшему в Самарру), а изменить саму судьбу, ее базовые координаты. Чтобы все изменить, нужно признать, что на самом деле ничего изменить нельзя (в рамках существующей системы). Жан-Люк Годар предложил девиз «Ne change rien pour que tout soit different» (ничего не меняй, чтобы все стало по-другому), перевернув фразу «надо немного подправить, чтоб все осталось как было». В некоторых политических ситуациях — таких как динамика позднего капитализма, когда лишь постоянное само-революционизирование может поддерживать систему, — те, кто отказывается менять хоть что-нибудь, несут с собой настоящие перемены: смену самого принципа перемен.
Именно в этом двусмысленность финала «Прослушки»: как нам следует воспринимать его? Как отрешенную трагическую мудрость или как открытие пространства для более радикального действия? Это темное пятно портит прекрасное сияние «Прослушки» в качестве «сериала марксистской мечты», по выражению одного симпатизирующего левого критика. Сам Саймон высказывается здесь вполне определенно: когда его спросили, социалист ли он, Саймон заявил, что он социал-демократ, который верит, что капитализм — это единственная игра в городе, и как таковая она не только неизбежна, но и не имеет соперников в своей способности производить богатство: «вы видите перед собой не марксиста /…/Я согласен с тем, что капитализм — это единственный надежный способ создания богатства в широком масштабе». Но не противоречит ли этой социал-демократической реформистской позиции в целом довольно трагический взгляд Саймона на вещи? Возлагая надежду на индивидов-бунтарей, он «в то же время сомневается, что институты олигархии, одержимой капиталом, сами себя реформируют, оказавшись на краю настоящей экономической депрессии (Новый курс Рузвельта, возникновение коллективных трудовых договоров) или системного морального краха, действительно угрожающего жизни среднего класса (война во Вьетнаме и последовавшее за ней, пусть недолгое, понимание необходимости переосмыслить те грубые следы, которые оставляет по всему миру наша внешняя политика)».
Но не приближаемся ли мы сейчас именно к «настоящей экономической депрессии»? Позволит ли перспектива погружения в депрессию возникнуть адекватным коллективным контринститутам? Чем бы все ни закончилось, ясно одно: сам трагический пессимизм Саймона очерчивает пространство для более радикальных перемен — только если мы признаем, что нет никакого будущего (в рамках системы), наш мир раскроется для грядущего.
9. По ту сторону зависти и ресентимента
Кажется странным, что попытка Петера Слотердайка утвердить «этику дара» {84} (как способ разрешить то, что хочется назвать «антиномиями государства всеобщего благосостояния») приводит нас неожиданно близко к коммунистическому взгляду на вещи. Слотердайк руководствуется элементарным уроком диалектики: иногда альтернатива не сводится к выбору между сохранением старого и радикальными переменами, то есть иногда единственной возможностью сохранить в старом то, что заслуживает сохранения, — это именно вмешаться и радикально изменить ситуацию. Если сегодня мы хотим спасти основы государства всеобщего благосостояния, то нам следует как раз отказаться от всякой ностальгии по социал-демократии XX века. Слотердайк предлагает своего рода новую культурную революцию, радикальные психосоциальные перемены, основанные на понимании того, что сегодня эксплуатируемым и производящим слоем общества является уже не рабочий класс, а (верхний) средний класс: именно они — настоящие «доноры», из чьих высоких налогов финансируется образование, здравоохранение большинства людей. Чтобы осуществить эти перемены, нужно оставить позади этатизм, этот пережиток абсолютизма, который странным образом смог уцелеть в нашу демократическую эпоху: это удивительно сильная идея даже среди традиционных левых, что государство имеет бесспорное право взимать налоги со своих граждан, то есть определять и изымать (через законное принуждение, если необходимо) часть производимого ими. Дело не выглядит так, что граждане отдают часть своего дохода своему государству — с ними обращаются, как если бы они изначально были государству что-то должны. Такое отношение основывается на мизантропических предпосылках, которые особенно сильны среди тех самых левых, что обычно проповедуют солидарность: люди в основе своей эготисты, без принуждения они не будут участвовать в общем благосостоянии, и только государство, с помощью своего законного аппарата принуждения, может выполнить работу по обеспечению необходимой солидарности и перераспределения.
Согласно Слотердайку глубинная причина этого странного социального извращения — в нарушенном балансе между эросом и тюмосом, между собственническим эротическим влечением к собиранию вещей и влечением (преобладающим в древних обществах) к славе и щедрости, к наделяющему престижем одариванию. Чтобы восстановить этот баланс, нужно в полной мере вернуть тюмосу признание в нашем обществе: с теми, кто производит и богат, нужно обращаться не как с группой, которая заведомо подозрительна из-за отказа оплатить свой долг обществу, а как с настоящими дарителями, вклад которых должен признаваться в полной мере, так что они могли бы гордиться своей щедростью. Первым шагом будет сдвиг от пролетариата к волонтариату: вместо того чтобы чрезмерно облагать богатых налогами, нужно дать им (законное) право по своей воле решать, какую часть своего богатства они хотят отдать на всеобщее благосостояние. Для начала нужно, конечно, не радикально снизить налоги, а открыть хотя бы небольшую сферу, в которой донорам будет дана свобода решать, сколь много и на что они хотели бы отдавать. Как считает Слотердайк, такое начало, пусть очень скромное, изменило бы постепенно всю этику, на которой основывается общественное принуждение. Но не оказываемся ли мы тут перед старым парадоксом свободного выбора того, что мы в любом случае обязаны делать? То есть не получается ли так, что свобода выбора, дарованная «волонтариату» «успешных» людей, — это ложная свобода, которая основывается на вынужденном выборе? Если нужно, чтобы общество функционировало нормально, то «успешные» люди будут свободны выбирать (одаривать деньгами общество или нет) только в том случае, если делают правильный выбор (одаривать)?
С этой идеей много проблем, и они вовсе не того рода, о которых кричали возмущенные Слотердайком левые. Прежде всего, кто в наших обществах настоящие доноры («успешные» люди)? Давайте не будем забывать, что финансовый кризис 2008 года был спровоцирован именно богатыми, добившимися успеха донорами, и спасало их государство, финансируемое «обычными людьми» (Показательным примером тут будет Бернард Мэдофф, который сначала украл миллиарды, а потом изображал из себя дарителя, жертвуя миллионы благотворительным фондам и т. п.) Во-вторых, богатыми становятся не в пустом пространстве, а в государстве и сообществе, это (как правило) насильственный процесс присвоения, который вызывает большие сомнения относительно права богатого донора владеть тем, чем он потом щедро одаривает. Наконец, надо особо отметить, что противопоставление Слотердайком собственнического Эроса и дарующего тюмоса очень упрощенно: не являет ли собой настоящая эротическая любовь полную отдачу себя? (Вспомните знаменитые слова Джульетты: «Моя, как море, безгранична нежность и глубока любовь; чем больше я тебе даю, тем больше остается: ведь обе — бесконечны» {85}.) И не разрушителен ли тюмос? Нужно всегда помнить, что зависть (ресентимент) является категорией тюмоса, вмешивающейся в сферу эроса и искажающей «нормальный» эготизм, то есть она делает нечто, что есть у другого (и чего нет у меня), более важным, чем то, что у меня есть. В более общем плане основным упреком Слотердайку должно быть: почему он выступает за щедрость только в рамках капитализма, который является как раз общественным порядком собственнического эроса и соревновательности? Ограниченная такими рамками, всякая щедрость заведомо окажется лишь обратной стороной грубого собственничества, своего рода Доктором Джекиллом капиталистического Мистера Хайда. Вспомните первый образец щедрости, упоминаемый Слотердайком — Карнеги, стальной человек с золотым сердцем, как о нем говорят: он сначала использовал пинкертонов и частную армию, чтобы сломить сопротивление рабочих, а затем выставлял на обозрение свою щедрость, (частично) отдавая обратно то, что он (не создал, а) захватил. Даже в случае с Биллом Гейтсом, как мы можем забыть о его грубой тактике уничтожения конкурентов и захвата монопольного положения? Главный вопрос поэтому таков: разве нет места щедрости за пределами капиталистического порядка? Должен ли всякий подобный проект оказываться вариантом сентиментальной моралистической идеологии?