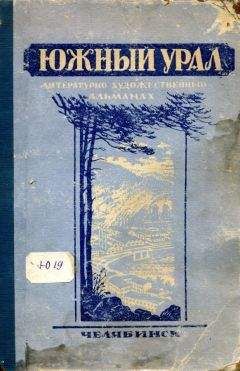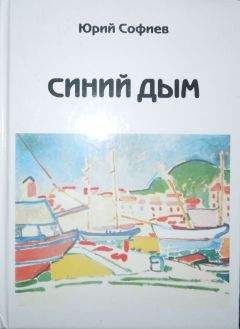— Иду, слышу дым. Откуда?
— С Маре-Сале…
— А-а, — протянул незнакомец. — Пясинец, вставай!
Мы растерянно молчали. Собаки, ворча, встали на ноги.
— Вы, значит, дома? — продолжал незнакомец. — Ну привет Кислову сказывайте.
— Постойте, товарищ! — взмолились мы и честно рассказали о своём несчастье.
— А-а, зимовка рядом, с полверсты однако будет, не больше. Пойдём, доведу.
И он твёрдо и уверенно погнал свору в сторону, в темноту.
Мы поспевали за ним из последних сил. «Как мальчишки, — возмущался я, — заблудились в трёх льдинах, костёр зажгли. Ах, Седовы! А он, как кошка ночью видит, как собака чует, на дым пришёл…».
В кают-компании ужинали.
— Ну и хорошо, — приветствовал начальник, — а я хотел было пару ракеток метнуть. А где тюлени?
В это время дверь распахнулась и вошёл каюр. Увидя его, начальник ни сколько не удивился и теперь уже многозначительно протянул, поглядывая на нас:
— А-а! Здоров, Егор?
«Понятно, мол, всё ясно».
Каюр вышел в свет ламп. Это был могучий старик с сухим аскетическим лицом, с серыми, быстрыми соколиными глазами.
Только во взгляде его было постоянное блуждание, как будто ищущее чего-то, обшаривающее всё кругом.
— Живу, Кислов, — отозвался каюр и откинул с головы белоснежный олений треух. Из-под меха показалась белая, как песцовая шкура, седая голова. Одет он был в лёгкий олений сакуй, на ногах тонкие собачьи унты без всяких вышивок и украшений. У пояса висел широкий нож в оправе из жёлтой мамонтовой кости. Старик говорил хрипло и глухо, словно голос у него был чужой.
Каюр оглядел кают-компанию: людей, кушанья, одежду, зажмурился на электричество, покосился на мягкую мебель и вздохнул.
— Ты говоришь, — обратился он к Кислову, — осваиваешь? С ними, что ли? — добавил он и взглянул на нас.
Я готов был провалиться под лёд на любую глубину Карского моря, только бы он не говорил этого!
— Учимся, Егор! — ответил начальник. — У вас, у стариков, учимся. А воевать и завоёвывать будем, старик! Да и тебя ещё прихватим с собой, Егор!
Начальник говорил с каюром почтительно. Незнакомец усмехнулся, отошёл к порогу и сел на пол. Оттуда раздались его скупые слова.
— Нет, Кислый, мне уж немного осталось гонять свою дорогу, и ты не сбивай с следа моих собак.
Воспользовавшись разговором, мы убрались в комнаты, чтобы снять с себя жалкие остатки «снаряжения».
Через пятнадцать минут, вернувшись в кают-компанию, я застал весёлое шумное общество за столом, а в углу на полу одиноко сидел старик и тихо жевал мясо. Тонко нарезанные куски оленины лежали перед ним на полу, как стружки.
Такое гостеприимство возмутило меня.
— Начальник! — громко обратился я к Кислову. — Я думаю, стакан горячего кофе и хороший бифштекс с рюмкой коньяка — это как раз то, что нужно сейчас нашему гостю. Что же вы, друзья, так недогадливы?
И я засуетился у стола: притащил стул, достал вилку, нож и тут внезапно заметил ошеломляющее молчание, которое воцарилось после моих слов. Я с удивлением взглянул на начальника: в его глазах я прочёл ярость.
Ужин прошёл в молчании. Старик кончил мясо, вынул кожаный кисет и отправил за губу добрую щепотку жвачного табаку.
— Песец нынче глубокий пойдёт. У тебя, Кислый, промысла не будет. Береговая собака вся уйдёт в глубину тундр, — проговорил старик.
— Откуда знаешь, Егор? — спросил начальник.
— Вечор крысу видал. Уходит она, ветры будут.
— Спасибо!
— Ну, пора, — неожиданно сказал старик и натянул треух на белую голову.
На этот раз никто не задерживал старика, хотя все знали, что лютует пурга, снег душит. Кислов пожал ему руку и просил заезжать, когда вздумается.
— Ладно, — кивнул старик, — только теперь не приеду. — Кислов поднял брови. — Ты меня не зови, Кислый, — оборвал вопрос каюр. — У домов склад строишь? Зачем? Запах слышу. Пясинец остервенел вовсе. Когда ждёшь?
— К весне ближе, Егор. Ты это зря, старый… — начал было начальник, словно извиняясь, но каюр махнул рукой, толкнул дверь и вышел.
— Дмитрий Николаевич…
— Это Молчаливый. Слыхал? — остановил меня начальник. — А ты с компотом да кофием пристал.
II.
Так вот он каков — легендарный человек, чудак, храбрец, непревзойдённый каюр и следопыт! Молчаливый! «Блуждающая смелость» — назвал его какой-то норвежский журналист.
Никто не знал откуда он родом, а сам Молчаливый об этом никогда не рассказывал. Старики кочевники — ненцы, якуты, эвенки, заслышав имя Молчаливого, с уважением говорят о нём: «В снегу родился Егор-то, как и мы. Давно здесь ходит, всё знает, мало говорку гоняет, молчит больше».
Его одинаково знают и на Чукотке, и на Кольском полуострове, и на Лене, и на Ямале. Рассказами о добродетелях и бесстрашии Молчаливого полны земли, скованные вечной мерзлотой. На Таймыре, на островах, на зимовках и в чадных чумах, на стойбищах крикливых и в тихих домиках промышленников песцов — везде знают Молчаливого.
К нему удивительно щедра на доброе слово, на славу, обычно скупая на похвалы, холодная земля.
Молчаливый от природы был дерзок и смел. Только такие и уживались здесь, только такие и покоряли дикую силу снега. И надо сказать — только таких любит и боится эта страна. А когда умирают или гибнут эти люди, снега бережно хранят о них светлую память, чтут их отвагу, силу и бескорыстие. Они живут здесь, как завзятый москвич на Арбате: привычно, спокойно, безбоязненно.
Однако, никто не знал его фамилии.
Все знали Молчаливого.
— Предки потеряли прозвище, — улыбался на вопрос Молчаливый. — Шли они сюда быстро: убегали, значит. Ну и потеряли прозвище.
…Далёкий предок Егора Молчаливого пришёл на Таймыр, вероятно, лет 300 назад. Как он пришёл: по доброй ли молодецкой воле, то ли под конвоем солдат — неведомо. Был ли это удалой искатель счастья в «незнаемой земле», или оборванный, клеймённый арестант без левого уха и двух пальцев на левой руке — молчит, не рассказывает Егор.
Как известно, XVII век на старой Руси был «бунтарским». Разин Степан оставил глубокий мстительный след: крестьяне пронеслись по помещичьим усадьбам и царским посадам яростными народными восстаниями. Народ бунтовал против затяжливых войн, непосильных налогов, рекрутчины и крепостного права; ремесленный, торговый люд в белокаменной Москве бунтовал из-за медных денег. Раскольники цепко держались за «древлее благочестие» и обычаи. Гуляла по Руси волна непокорности и злобы.
Бунты подавлялись с отменной жестокостью. Плаха на Лобном месте не высыхала от крови. Казнями, пытками и кровью отмечен в истории XVII век. А тех, кого не успевали казнить, били батогами для позора и ссылали партиями на заселение «диких мест».
И вот «бунтовавшая чернь», земельная беднота, раскольники-аввакумцы, «гулящий и клеймённый люд» потянулись в новые земли — в леса могутные, страшные, непролазные, в страну холодную, снежную, ветренную. Это были самые обычные русские крестьяне, иные непокорные, а другие как-то провинившиеся перед царскими законами.
Злобу, ненависть и вольнодумство выгоняли цари в Сибирь. Так и повелись здесь странные люди, не поймёшь кто: ни русские, ни якуты, ни самоеды. Так и жили, поклоняясь деревянным богам, не знаясь с факторщиками, ни с попами-миссионерами. Осталось их немного, но зато были они больно крепки, кряжисты и отважны.
Про Егора Молчаливого, его твёрдость и характер говорили везде с уважением. Как скажет бывало, то так и быть, а не то добра от него не жди. Однако, никто не скажет, что плохие, нечистые дела справлял Егор. Нет, этого не бывало у Молчаливого. А обманывать охотников — остяков да якутов не давал. Любили они его, как любят только в снегах Севера: всей своей жизнью.
Про новую власть услышал Егор, увидел, какую правду она принесла в снега, одобрил. «Правильную говорку кладёт, — сказал Молчаливый, — верную дорогу гоняет. Хорошо должен жить тундровый человек, свободно, как вольный олешек в тундре».
Но чем ближе присматривался к делам новых людей, тем больше мрачнел и убирался прочь от селений, в глубь тундр уходил, на острова переселялся, пропадал в неизвестных заливах. Странными казались ему эти новые люди. Были они все восторженные какие-то, шумные, непочтительные к снегам, но упорные. Не покорялись, не гнулись, а со смехом ходили в его немой стране. Они, то и дело, говорили о заводах, шахтах, кораблях, угле и обещали обшарить всё кругом, застроить, заселить…
Слушал их Молчаливый и смеялся одними глазами: хохотать громко не умел.
— Вздумали обшарить все снега! Строить! Народ нагнать! А кто жить будет в постройках? Всё едино передохнут, как рыба в заморе. Ха!
Но они стали строить! Молчаливый содрогнулся, когда услышал первый стук топора и визжание пил. Кто смел нарушить покой снегов! А страна, которую Егор любил за дикость, девственность и суровость, эта страна покорилась. Пришельцы развалили все земли — промороженные и мёртвые — у себя под ногами, как свежуют спутанного оленя.