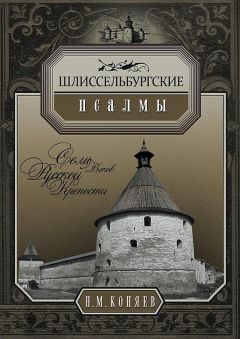„О назначении смотрителя Нерчинской обсерватории“.
Каторга и наука, кнут и промысел. Зловещая насмешка, а может быть, особый исторический смысл — в постоянном архивном соседстве документов, чертежей, таблиц, относящихся к науке, природе, настоящим человеческим делам, а также документов, реестров, ведомостей о плахе, рваных ноздрях и тому подобных делах нечеловеческих. Они были рядом в краю, где всемогущему нерчинскому горному начальнику подчинялись шахты-тюрьмы со слишком знаменитыми названиями: Зерентуй, Нерчинский завод, Шилка, Кара, Кадая, Петровский завод и „ад в аду“ — Акатуй. Здесь был эпилог десятков политических заговоров, сотен отчаянных бунтов, тысяч диких преступлений, совершенных к западу от Урала, в другой части света…
На 17 ноября 1833 года в Нерчинских заводах использовалось в работах 3209 ссыльнокаторжных. Каждый рубль, вложенный в промыслы, возвращает 135 без малого копеек. Все заприходовано усердными нерчинскими писарями, сшивавшими свои дела в невероятно толстые тома — по 1000, 1500 и даже 3000 страниц. Заприходованы прибыль, наказание, отчаяние и даже мужество.
Кругом — чисто бухгалтерский учет, из которого выясняется, что за сто лет отпущено более полумиллиона ударов кнутом и плетью: бежало за это время 3512 человек, из которых 3075 вскоре схвачены. Бежавших второй раз — 89 человек. Третий раз — 16. И только по одному человеку рискнули в четвертый и пятый раз; впрочем, большего наказания, чем кнутом или плетьми, обычно не следовало, так как выгоднее было вернуть беглого для добывания 35 процентов прибыли.
Приведенная статистика свидетельствует о немалых удачах палача в борьбе с жертвою. Некоторые документы иллюстрируют большую или полную потерю человеческого в людях. Но рядом — борьба сознательная, благородная, сопротивление спасительное, непрерывное, следы которого не так просто разглядеть за нумерованными листками и канцелярским слогом.
В первые читинские месяцы возникло общее дело, сплотившее всех декабристов, — побег. План был: спуститься по Ингоде в Аргунь и Амур, а дальше — к Сахалину и в Японию. Прежде пытался поднять бунт и уйти из Зерентуиского рудника декабрист Иван Сухинов, но был схвачен, приговорен к смерти и накануне казни удавился…
„М. С. Лунин сделал для себя всевозможные приготовления, — рассказывал декабрист Розен, — но, обдумав все, не мог приняться за исполнение: вблизи все караулы, и пешие, и конные, а там неизмеримая, голая и голодная даль. В обоих случаях, — удачи и неудачи, все та же ответственность за новые испытания и за усиленный надзор для остальных товарищей по всей Сибири“.
Другой товарищ припомнил: Лунин нарочно не ел ни рыбы, ни мяса и шутил, что воздерживается для того, чтоб у него оставалось поменьше сил — иначе не удержится, перемахнет через стену…
Летом 1830 года декабристов, из Читы на 634 с половиной версты приблизили к Европе и удалили от искусительной границы. Тем летом по одной из дорог Центральной Азии двигалась группа. „Впереди — Завалишин в круглой шляпе с величайшими полями и в каком-то платье черного цвета своего собственного изобретения, похожем на квакерский кафтан. Маленького роста — он в одной руке держал палку, выше себя, в другой — книгу. Затем выступал Якушкин в курточке a l'enfant и Волконский в женской кацавейке, кто в долгополых пономарских сюртуках, другие — в испанских мантиях, блузах… Европеец счел бы нас за гуляющий дом сумасшедших“ („Записки“ декабриста Басаргина).
Прибытие в Петровский завод нерадостно: в Чите было вольготнее; всякая мысль о побеге теперь гаснет, таившиеся кое у кого надежды на амнистию рассеиваются — не стали бы тогда строить новую добротную тюрьму…
„Из письма Аннеты Вы давно узнали, что я получил „Шесть лет“ еще в декабре месяце; Вы видели мою благодарность, повторять ее не буду. Вы давно меня знаете…“
Этими словами начинается одно никогда не печатавшееся письмо, обнаруженное недавно в Ленинграде, в Отделе рукописей Института русской литературы Академии наук. Институт этот имеет еще второе имя: Пушкинский дом; здесь сосредоточены все рукописи великого поэта, множество писем, документов его родственников, друзей, современников… Вот и это послание написано почерком, хорошо известным многим специалистам по русской истории и литературе прошлого столетия: рука Марии Николаевны Волконской.
Дата на письме — 7 февраля 1836 года: Сибирь, каторжная тюрьма в Петровском заводе, за семь тысяч верст от столиц. Уже десятый год длится заключение главных героев 14 декабря, и судьбу их разделяют несколько жен, отправившихся в добровольное изгнание.
Однако Мария Николаевна Волконская, как легко заметить, пишет в мужском роде — „я получил…“; пишет за другого — ведь тем, у кого не кончился каторжный срок, запрещена самостоятельная переписка, и порою декабристкам приходится писать по 15–20 писем в день… По содержанию послания видно, что на этот раз Волконская пишет от имени Ивана Ивановича Пущина.
Прошло почти двадцать пять лет с тех пор, как Ваню Пущина привезли в новое, прежде невиданное учебное заведение, Лицей, и он оказался в зале, где впервые увидел своих будущих однокашников. Позже — вспомнит:
„У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям. — Я слышу: Александр Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда“.
А рядом стояло еще двадцать восемь мальчиков: Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер, Федор Матюшкин, Александр Горчаков, Владимир Вольховский, Иван Малиновский, Михаил Яковлев, Константин Данзас и другие… Удивились бы они, если б угадали, как много мы о них знаем, как их помним более чем полтора века спустя!
Шесть лет они проучатся вместе — шесть лет, наполненных чтением, веселыми проказами, серьезными мечтами. Видно, очень хороши и легки были для них эти шесть лет, если позже вспомнят, что — „промчались, как мечтанье…“.
На прощанье лицейский директор Егор Антонович Энгельгардт подарил им всем на память особые чугунные кольца — символ несокрушимой дружбы и памяти, — и они будут называть друг друга чугунниками…
В старину, как и теперь, окончившие одну школу разлетаются по свету кто куда. Малиновский, Пущин — в гвардию, Матюшкин — в моряки, Горчаков, Пушкин — по дипломатической части… Некоторые служат вместе, продолжают дружить и встречаться чуть ли не каждую неделю, не говоря о священном лицейском дне — 19 октября. Иных — Пушкина, например, — судьба забрасывает на другой конец страны. Но при всем этом
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село…
Эти строки — из знаменитого стихотворения, написанного 19 октября 1825 года. Там же мы находим и слова о Пущине:
…поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил…
Выходит, при особых обстоятельствах, в печальном изгнании лицейский праздник мог произойти не только в „главный день“ — 19 октября, но и в какой-нибудь другой, сладостный день встречи с друзьями. Так случилось 11 января 1825 года, когда Пущин внезапно объявился в Михайловском, у запертого там Пушкина. Так случится еще раз, одиннадцать лет спустя, в далекой Сибири, когда один из „каторжных дней“ вдруг станет лицейским для изгнанника Пущина. Именно об этом мы и узнаем из письма, с которого начался наш рассказ из Петровского завода.
Февраль 1836 года. Великому поэту не осталось впереди и года жизни; Пущину еще предстоит провести три года на каторге, затем семнадцать лет на сибирском поселении. Однако человек, которого поэт назвал „мой первый друг, мой друг бесценный“, не забывает далеких, недостижимых друзей своей юности. На этот раз он (с помощью жены товарища по заключению) составляет послание тому директору Царскосельского лицея, который некогда поздравлял первых лицеистов с окончанием учения и дарил им кольца.
Егор Антонович Энгельгардт никогда не был революционером, не разделял политических взглядов Пущина, Кюхельбекера и некоторых других воспитанников; однако при всем том бывших своих учеников никогда не забывал, опальным постоянно писал (хотя это, видимо, повредило его карьере), однажды воспользовался каким-то удобным случаем и переслал „государственному преступнику“ Ивану Пущину стихотворение Пушкина, написанное к лицейскому празднику 19 октября 1827 года, „Бог помочь вам, друзья мои…“; стихотворение, где поэт, между прочим, вспоминал и желал счастья тем одноклассникам, которые томятся „в мрачных пропастях земли“. В конце же 1835 года старый директор присылает другие строки и ноты, взволновавшие узника-лицеиста: