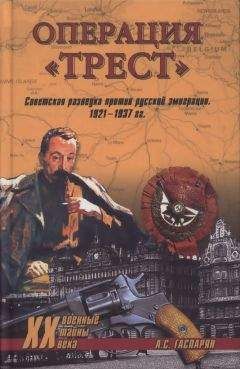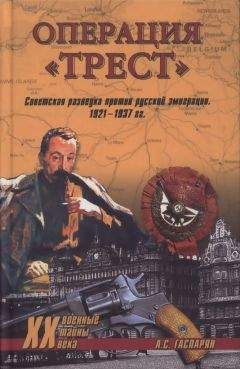От соблазнов этой «клиники» не удержался, скажем, Павел Орленев, представлявший в одной роли агонизирующего и умирающего человека так натурально (искаженное лицо, остекленевшие глаза), что в зале раздавались крики ужаса и дам выносили в истерике. Кино — а вслед за ним и телевидение — может показать то, что недоступно театру. Может вести действие в ином отсчете времени, приблизить к нам лицо человека и сосредоточить внимание на этом лице, на взгляде, улыбке, движении бровей. «Когда он улыбается, лицо его становится неотразимо привлекательным», — вслед за Пристли можем сказать мы о Саймоне — Кольцове. Доживая последние дни и мгновения, он не выключен из жизни, как Андрей Болконский — напротив, привязан к ней, благодарен ей. Лишенный начисто сентиментальности, всегда иронично трезвый, почти циничный, художник верит в то, что жизнь прекрасна.
Саймон Кендл Кольцова — трезвый человек, знающий напрасность многих усилий, а тем более слов, направленных к объединению людей, Саймон Кендл Кольцова — человек, верящий в необходимость усилий, направленных к объединению людей. Он живет на экране всеми мелочами тех дней, которые ему отпущены, он видит все подробности вещей, которые еще оставлены ему жизнью, и зорко всматривается в лица немногих людей, его окружающих: внучки, провинциального доктора, сиделки, подростка-слуги. Только старшего сына, единственного преуспевшего, единственного вроде бы поддерживающего «реноме» семьи, Кендл не относит к людям.
Среди немногих оставшихся ему вещей — раскрашенная картинка, изображающая улыбающуюся девицу, да патетическое изречение на стене возле постели: «Бог есть любовь». И глаза человека все останавливаются на этой прописи, которую слышал он с детства. «Значит, каждый предмет вселенной — это любовь? Она дешевле навоза, так ее много. И люди считают — незачем им беспокоиться, незачем любить, незачем самим созидать любовь. Если бы мы сказали, что бог есть могущество, но хочет быть любовью, мы вели бы себя разумнее». Такая длинная речь не дается даром больному: он слабеет на наших глазах в продолжение того экранного времени, которое ему отпущено, но в этом изображении болезни и смерти актером нет и следа «клиники», стремления как бы проиллюстрировать болезнь — может быть, потому, что Кольцов играет не дряхлость, но бодрость, не угасание мысли, но ясность мысли, не отстраненность от жизни, но преданность ей и веру в нее.
Пристли не приписывает Саймону Кендлу ни богоборчества, ни атеизма, хотя в бога он вряд ли верит, во всяком случае не думает о нем в конце жизни. Он не боится, не просит снисхождения и даже отсрочки, он помнит трезво и отчетливо все, что было в его прошлом: отца-каменотеса, Бретань 1900 года, трех жен и любовниц, о которых мимоходом упоминает однажды, старого друга — истинного художника, к которому и бежал он из дому от заботливого сына Эдмунда. Человек по имени Саймон Кендл, по профессии художник прожил свою жизнь и к концу ее идет бесстрашно и спокойно, смотрит не вперед — в небытие, в «черный мешок», в то, чего уже не будет, но в то, что было у него самого. И в то, что будет у других, остающихся. Он не вслушивается в себя, не ограничивает мир границами болезни, но все время выходит из этих границ. Поэтому так легко с ним живым людям. Не таким, как сэр Эдмунд, но истинно живым. Обыкновенному провинциальному доктору. Сиделке с милым и усталым лицом, у которой дети погибли в авиакатастрофе. Подростку — служителю гостиницы и даже самому свирепому хозяину гостиницы. Поэтому Кендлу не нужен священник или иной утешитель. Он в последний раз прикладывает к губам флягу с коньяком: «На дорогу, старина, на дорогу!» — а потом берет не дававшее ему покоя изображение размалеванной красотки, висевшее на стене, и прикасается к нему карандашом. Легким, красивым движением — жесты его вообще легки и красивы — передает художник эту преображенную картинку сиделке — той, с милым лицом, которая сняла дом в ожидании семьи, а семья погибла в самолете Гонконг — Лондон. И все. Сиделка наклоняется над ним, затем выбегает на лестницу, чтобы позвать ненужного уже доктора.
Последний кадр — улица, старый двухэтажный дом-гостиница. Ночь, темнота, освещено только окно второго этажа — комната Кендла. Метафора наивна и бесспорна. Потом свет гаснет. Кончились восемьдесят два года — два с половиной часа экранного времени. Восемьдесят два года — два с половиной часа, отпущенные этому человеку в громадной жизни человечества.
В одной из своих статей Кольцов говорил о том, что бедствие театра и актеров — игра на «среднего зрителя». Сам он играет для зрителя — собеседника и соратника. Напоминает этому зрителю слова Толстого: «Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник». Эти непременные качества подлинного искусства определяют и образ художника Саймона Кендла и весь стиль повествования о его жизни и смерти. Повествование это выдержало испытание временем. Сегодня исполнение Кольцова ничего не потеряло — так же, если не больше (мы обязательно производим проверку временем), радует оно мудростью и простотой, легкостью и силой, живущей в этой легкости. Часто старые ленты кино, тем более — телефильмов, умирают после первого же показа (или вскоре после него). Эта лента живет потому, что в ней истинно сочетается «что», «как» и «насколько от души» говорит художник.
Быть на уровне высшего образования своего века! Ю.Кольцов
Мы не могли задать Юрию Эрнестовичу Кольцову, замечательному артисту Художественного театра традиционного для нашей книги вопроса: как вы это делали? — имея в виду его поистине выдающуюся актерскую работу в телеспектакле «Теперь пусть уходит». Тяжело болевший в последние годы, Юрий Эрнестович умер, когда книга была в производстве. Мы публикуем последнюю статью Ю.Э.Кольцова о творчестве актера. Как увидит читатель, его размышления о соотношении личности актера и его творчества впрямую относятся к предмету нашей книги и служат отличным комментарием исполнителя главной роли к рассказу Е.Поляковой о телеспектакле.
«Писатель всегда думает о читателе». Эта забота — быть понятым и принятым читателем — настолько характерна для людей литературного труда, что и Горький в «Дачниках» и Чехов в «Чайке» один — своему Шалимову, другой — Тригорину дали возможность сесть на любимого писательского «конька» — поговорить о читателе. Актер думает о зрителе — и каждый представляет себе зрителя по-своему. Один талантливый комедийный актер признался мне как-то, что больше всего боится кашля в зрительном зале. Для него кашель был символом бедствия: значит — не смешно! И он старался смешить без передышки. Другому кажется, что в зале сидят хмурые, придирчивые люди. Третьей — что зал полон молодых людей, и она кокетничает, доказывая, что молода и хороша собой, — как будто это так важно. Четвертый — вы сразу отличите этого актера, он будет играть «в профиль», вслушиваясь в тембр собственного голоса, четвертый считает, что зал набит девушками… Мне всегда нужно поверить, что меня смотрят друзья, люди передовых взглядов, интеллектуально богатые, с хорошим вкусом. К сожалению, в театре еще живет примитивное понятие о «среднем зрителе» — вот и кассовые пьесы ставят для «среднего зрителя», плохие спектакли играют для «среднего зрителя». И получается, что мы сами принижаем достоинство тех, кто пришел на спектакль, и вместе с тем принижаем наше искусство. Вероятно, каждый, читая книгу, выпишет что-то для себя особенно близкое. Мне посчастливилось найти в письмах Л.Н.Толстого очень современные по духу и потому особенно дорогие мне слова. То, что семьдесят лет назад писал Л.Н.Толстой В.А.Гольцеву, звучит напутствием каждому из нас.
«Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник.
1. Для того чтобы художник знал, о чем ему должно говорить, нужно, чтобы он знал то, что свойственно всему человечеству, и, вместе с тем, еще неизвестно ему, то есть человечеству. Чтобы знать это, художнику нужно быть на уровне высшего образования своего века, а главное, жить не эгоистичною жизнью, а быть участником в общей жизни человечества. И потому ни невежественный, ни себялюбивый человек не может быть значительным художником.
2. Для того чтобы говорить хорошо то, что он хочет говорить (под словом „говорить“ я разумею всякое художественное выражение мысли), художник должен овладеть мастерством. А чтобы овладеть мастерством, художник должен много и долго работать, подвергая свою работу только своему внутреннему суду.
3. Для того чтобы от всей души говорить то, что он говорит, художник должен любить свой предмет, а для этого нужно не начинать говорить о том, к чему равнодушен и о чем можешь молчать, а говорить только о том, о чем не можешь не говорить, о том, что страстно любишь.