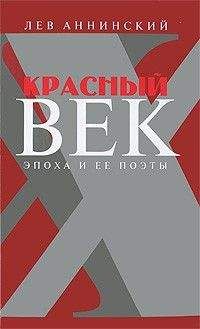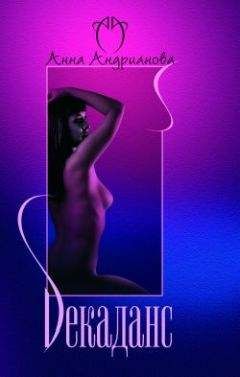С отрочества помнит: объяснять, откуда хаос, и утверждать, что такое центр, лучше всех умеют социалисты. Поэтому Поэзия (поиск Смысла) изначально сливается с Революцией. "Принимать или не принимать? Такого вопроса не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось".
Что же приходилось?
"Начали заседать…"
Далеко ли до "Прозаседавшихся"?
Так где Смысл, а где — Революция? А это одно и то же, как бы в разных жанрах. Есть будни, проза, текучка, граничащая с хаосом. Партия метет все это железной метлой. И есть Поэзия, делающая то же самое. В Поэзию Маяковский вступает как в партию. В Поэзии можно "смазать карту будня". В ней можно проклинать хаос, упиваясь ненавистью к нему.
Начало Маяковского — проклятья тому миру, в котором он появился на свет среди враждующих грузин и казаков, вдали от России, от Смысла, от Бога.
Запальчивое его богоборчество — никакая не борьба с Вседержителем, а скорее примеривание к Его месту — перебор фальшивых претендентов, прикрытый панибратством. Похлопывать "бога" по плечу: "Послушайте, господин бог! Как вам не скушно?..", пугать его, делая вид, что достаешь из-за голенища сапожный ножик, — это не богоборчество. Это нервная игра не находящей себе места души. Это лихое кружение около священного места, пустого и страшного.
И плакатное водружение самого себя на небесный престол — вовсе не самовозвеличивание. Это шутовская самореклама, выворачивающая в абсурд любые претензии и тем самым подтверждающая неприкосновенность Места. Поэтому с вознесшимся в "бездну" Маяковским ангелы беседуют в таком стиле: "Ну, как вам, Владимир Владимирович, нравится бездна?…" — "Прелестная бездна. Бездна — восторг!" (При социализме "бездна", не ломая ритма, перестроится в "ванну"). Вышеописанный "Владимир Владимирович" — столько же новый Христос, "нюхающий незабудки", сколько и новый Нерон, "пьяным глазом обволакивающий цирк". И на цепочке у него — Наполеон вместо мопса. Игра в маски! И только "случайно" (неслучайно!) из-под блуда мнимого богохульства вдруг вырывается задавленная вера, и стих, бешеный от неприкаянной энергии, поднимается до высот экстатической молитвы:
В ковчеге ночи
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Не приходят. И гениальное молитвословие вновь ныряет под маску. Под маску праотца Ноя, под маску "поэта Маяковского", под маску какого-нибудь "аптекаря"…
Перед нами потрясающе переданное отсутствие Бога в мире, который создан Богом и без Бога гибнет. Земной шар, заливаемый кровью армий и народов, — ТАКАЯ картина мировой войны увидена явно из-под купола мироздания. Или — картина всемирного примирения, когда народы сносят в воображаемый Центр земли, к отсутствующему небесному престолу все то, что имеет смысл только в соотнесении с Абсолютом. Германия — "мысль принесла". Франция — "алость губ". Россия — "сердце свое раскрыла в пламенном гимне…" Можно спорить о составе даров, но процедура неоспорима: если несут, — значит, есть КУДА нести, КОМУ нести, РАДИ ЧЕГО нести.
"Что-то есть" превыше народов и стран, наций и царств: "над русскими, над болгарами, над немцами, над евреями, над всеми под тверди небес, от зарев алой, ряд к ряду, семь тысяч цветов засияло из тысячи разных радуг…" — это из поэмы "Война и мир". Лев Толстой как предшественник, укравший заголовок (и сказавший, между прочим: бога нет, но что-то есть) выволочен "за ногу худую! по камням бородой!" Земной же шар — сохранен и утвержден как свято место, которое да не будет пусто: земной шар "полюсы стиснул и в ожидании замер".
Он замер в ожидании, а в его порах и щелях, дырах и недрах, порах и складках кипит слепая жизнь — хаос невообразимый, немыслимый, нестерпимый! Клочья, лохмотья, обрубки, окурки, осколки, плевки, рвань. Дыры: дыры могил, дыры вытекших глаз, дыры вопящих ртов. Пятна и кляксы — там, где должны быть линии и тона. Линии сбиты, тона доведены до взрывной густоты. Цвета орут.
Упор на словесную живопись (что понятно, если учесть, что автор учится на живописца). Упор на жранье, питье и рыганье (что понятно, если учесть, что автор наголодался, когда после смерти отца переехал с мамой из Грузии в Россию). Упор на плоть, вернее, на "мясо": вывернутое, наваленное кучей, окровавленное, лишенное покровов (с началом империалистической войны мотив становится почти навязчивым, и это тоже можно понять).
В такой свальности нет места не только для соразмерных "объемов", но и для общих понятий. Все горит, ползет и дымится; страны "сведены на нет": "Италия, Германия, Австрия" — этикетки на грудах кровавого мусора. И Россия — тоже:
Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?
Нельзя? Тогда так:
Я не твой, снеговая уродина…
(отметая попутно блоковские "дымки севера")…
В это же самое время этот же самый человек в газетной статье "Россия, искусство и мы" пишет: "Россия — Война, это лучшее из того, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы. Да!.. Пора знать, что для нас "быть Европой" — это не рабское подражание Западу, не хождение на помочах, перекинутых сюда через Вержболово, а напряжение СОБСТВЕННЫХ сил в той же мере, в какой это делается ТАМ".
Рассуждение, достойное нормального гражданина и даже, не побоюсь сказать, патриотическое.
Почему же в газетной статье гражданин России рассуждает нормально, а в стихах поэт орет России "Эй!", потому что это не страна, а куча хлама?
Потому что в стихах действует не нормальный человек, а "лирический герой". Герой этот — порождение того хаоса, который его мучает и который доведен в стихах до предела, до абсурда. Герой — "гунн", "фат", "мот", издевающийся насильник. Его отношения с миром — блуд, глум, драка и вызов. Другого подхода мир не понимает.
Какое горькое, вывернутое наизнанку сиротство. Какое невыносимое чувство "ненужности". Какая сжигающая жажда — чтобы все "это" стало наконец хоть "кому-нибудь нужно".
Любой ценой — собрать этот рассыпанный мир воедино.
Октябрьский переворот — сигнал. Это перехват: было — ничье, стало — НАШЕ.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных копий.
Переворачивание символической картинки: главное — уничтожить "черного орла", РАЗОРВАТЬ его.
Почти детское оборачивание приема: вы — рвали, мы — не дадим рвать.
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее "Прежде".
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Два слова поражают в этом призыве. "Сегодня" (то есть: мгновенно, с пересечением линии, с произнесением слова!). И — "пуговица". Жажда Смысла замыкается на материальной закорючке. Еще отольется слезами и кровью главному советскому поэту непроизвольный размен духа на материю. Но пока — праздник. Мир — НАШ.
С момента пересечения магической черты начинается перемаркировка вселенной. Выбивается моль. Отмываются города. Составляются описи, реестры, перечни. Предлагаются списки на расстрел: Рафаэль, Корнель, Расин, Пушкин… Не следует понимать это слишком уж буквально; тут важнее звукопись: "расстрел… Расстрелли". Просто язык пуль — как бы общепонятный код времени. Поэтому: "Ноги знают, чьими трупами им идти". Опять-таки: никакой особой личной кровожадности тут нет; рядом с казненными стариками-адмиралами и мысленно взорванным Кремлем — спасенный крейсер, на котором мяукал забытый котенок. Котенок взят в будущее. Новый Ной собирает чистых. На всякую ненависть тотчас находится любовь. Смысл — в перечислении ненавидимых и любимых. Происходит инвентаризация мира: издаются поэтические "декреты","директивы", "приказы". Жанровая модель: то-то и то-то считать тем-то и тем-то. Осваиваются новые названия. Порядок освоения: Революция, Коммунизм, Интернационал, Советы… Названия вводятся торжественно и деловито: ни мучительной взвешенности Ходасевича, ни ядовитой вежливости Мандельштама, ни деланного равнодушия Цветаевой — для Маяковского "РСФСР" — действительно поэтический символ, как и "Совнарком", "Наркомпрод", "Моссельпром"… МУР… ЦКК… ГПУ…