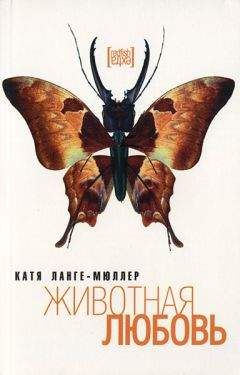сюда вдвоем войдут:
и нет для них реальней
предметов, чем станки,
столы и наковальни.
VIII
Все глуше, бесполезней
зовет к деянью плоть,
все тягостней болезни,
застывший разум глух,
не в силах обороть
нашествия кошмара
о страх, о слабый дух,
о тягостная кара!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Угрюмо бродит кто-то
меж дюнами порой:
тяжка его забота;
нисходит влажный мрак,
хрустит песок сырой.
На берегу пучины
он замедляет шаг:
для страха нет причины.
Гряда холмов песчаных;
здесь не бывает встреч
ненужных, нежеланных,
здесь пристань, здесь приют,
здесь умолкает речь
пред голосом рассудка
и сердца - все же здесь
невыразимо жутко.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
I
Молчание, ни слова
ей не произнести
ни в глубине алькова,
ни возле очага
оборвались пути
неумолимо, разом:
в душе лежат снега,
и успокоен разум.
II
Покуда море дремлет,
внезапно пробудясь,
она глаза подъемлет
в еще рассветный мрак,
я жду - но рвется связь:
за гранью смерти где-то
лежит архипелаг
забвения и света.
III
К приюту нежилому
влекусь, где в зеркалах
сейчас тоска по дому
уснула тяжело;
пусть я повержен в страх,
но все же должен вскоре
уйти, разбив стекло,
туда, в другое море.
IV
И вот с тяжелым стоном
приходит свет дневной,
вдали под небосклоном
печальный моря взгляд
прощается с луной,
и полчища бакланов
бессмысленно кричат,
внезапно в воздух прянув.
V
Блаженно ты, стрекало
стальных, студеных вод
для плоти, что взалкала,
бессмысленно греша,
сорвать ненужный плод,
и скверна отлетает,
и вечная душа
здоровье обретает.
VI
В те времена, вначале,
какими были мы?
Как светочи пылали
завороженных глаз,
как падало из тьмы
немыслимое слово,
что нисходило в нас
и отлетало снова?
VII
О, как метался в блеске
объятый бурей брег,
и ветр ярился резкий!
Безумная вода,
как проточеловек,
бряцала донной гущей,
о, мог ли я тогда
провидеть час грядущий?
VIII
Меж дюн к заветной двери
я рвался каждый раз,
во пламени потери,
в бесплодье мятежа
я слышал тот же глас...
Нет дела бесполезней,
чем прозябать, дрожа,
в первоначальной бездне.
IX
Являлся блеск слепящий
во зримые края.
Сюда, в приют язвящий,
где замкнута душа,
в тоску по дому я
вхожу - во мрак, в опалу,
возвышенно спеша
к решенному финалу.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
От чистоты великой,
от нежности морской
она тропою дикой
давно ушла туда,
к пучине городской.
О ней - святой, убогой
как в давние года,
в деревне помнят много.
Ты, сердце, ты - подворье
для памяти ее;
столь малое подспорье
потребно ей: ночлег,
горячее питье
для плоти и для духа,
чтоб за окошком - снег,
чтоб здесь - тепло и сухо...
Она дорогой смутной
бредет через село,
как призрак бесприютный
сквозь ветер и сквозь ночь,
плетется тяжело,
но временам стеная
она уходит прочь,
бездомная, больная.
И полон жалоб странных
был тьмы великий вал,
весь в отблесках багряных.
В чужой вступая спор,
их ветер тасовал,
как старую колоду,
дрожа, мерцал простор,
ведущий к небосводу.
И этот жребий темный
всех тех, кто брел за ней,
поверг во страх огромный,
на ледяном ветру
им было все страшней,
но все ясней, все чище.
И каждый поутру
нашел свое жилище.
Отвергнув мрак и гнилость,
бредет она одна
иль там, где прежде билась
в немыслимых мирах
свободная волна,
вскипает смрад позора?
Всего безмерней - страх
того, что будет скоро.
Уже четыре раза
пришел и канул год.
Убил ли, как проказа,
ее, живую, бой
страстей, водоворот
стремлений и печалей?..
Еще шумит прибой...
...все глуше, одичалей...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
I
Лотошник-ветер мимо
досаду вновь несет,
опять неумолимо
он плачет у дверей,
пытаясь круглый год
меня переупрямить.
Уйди, уйди скорей:
невыносима память.
II
При свете дня понятно
ее небытие,
о солнечные пятна,
что в мозг издалека
вонзают острие,
язвят и отчуждают,
надежда и тоска
отчаянье рождают.
III
Под вечер в двери снова
лотошник-ветр стучит,
от памяти былого
дрожу и прячу взгляд:
он жалок, нищ на вид,
как те, что поневоле
у очагов сидят,
заснув, - и даже боле.
IV
Приняв от жизни жребий,
скитаюсь я в саду,
следя в широком небе,
как светлая гряда
на зимнем холоду
проходит величаво
в былое, в никуда
держава за державой.
V
Слова летят в просторе
прозрачной высоты
виновен ветр иль море?
Нет, оставайся нем,
зачем иначе ты
ушел в приют укромный
и сетуешь зачем
на этот мир огромный?
МАРТИНЮС НЕЙХОФ
(1894-1953)
ДОМ
Где пышен сад и плодороден дол,
Где ветром с дюн обласкан каждый злак,
Стоит мой дом, откуда я ушел
И где сегодня поселился враг.
Дом огневою точкой стал, и сад,
Давно, я знаю, вырублен врагом.
И если правда то, что говорят,
Разбито поле минное кругом.
Так говорят. Но, не смирен с судьбой,
Я верить в дом родной не устаю:
Мне нынче ночью сообщил прибой,
Что скоро шторм спасет страну мою.
ПТИЦЫ
Фабричные рабочие идут
Перекусить, развлечься в перерыве,
Мечтая о футболе и о пиве,
Об отдыхе на несколько минут.
Вот так и птицы, - в мире нет счастливей,
Чем те, кто полюбил такой уют:
Так воробьи к ботинкам робко льнут,
Толкутся чайки, споря о поживе.
Но безработным птицам счастья нет,
Стараньям Армии Спасенья рады,
Они съедают нищенский обед.
А если крох попросят, как награды:
Пустить в кино, ссудить велосипед
Нарежутся на конные отряды.
ПОЮЩИЕ СОЛДАТЫ
Булыжники остры: усталость, злоба.
Идут солдаты, сердцем присмирев.
Какою болью вам звучит напев:
"Прощай, Мари, прощай, моя зазноба..."
Мы в даль глядим: она чиста, открыта,
Печаль, печаль, как часто в забытьи
Мы повторяем вымыслы твои:
"У дьявола два рога, два копыта..."
Где музыка? Где барабанный бой?
Вы брошены наедине с судьбой:
"Страшна разлука, не страшна граната..."
Так пойте, вдаль по улицам спеша!
Всегда таится детская душа
Под грубой оболочкою солдата.
ГОЛЛАНДИЯ
Твой воздух над моею головой,
Голубизна и солнце в ветре звонком.
Я шел через простор прекрасный твой,
Я на груди твоей дремал ребенком.
Я брел и наяву, и в забытьи,
И в жилы мне входили кровью древней
Каналы протяженные твои,
Далекие и светлые деревни.
Вечерний свет нисходит от окна,
Молчат кастрюли, пестики и ступки.
Жизнь Господа спокойна и ясна,
Ему понятны люди и поступки:
Муж в голубой рубашке и жена
В крахмальном фартуке и белой юбке.
К НЕЗАПАМЯТНОМУ
Служанка чашу держит на весу,
сливая кровь овцы, убитой днем.
Хозяйка вяжет. Мясо над огнем
шипит, роняя красную росу.
Мерцает зеркало в углу своем.
Волчица воет далеко в лесу.
Мой праотец в двенадцатом часу
в мешке волчонка принесет живьем.
Одно мгновенье медлим - я и он,
проникнуты домашней тишиной,
что обступает нас со всех сторон,
и пахнет мясом, струганой сосной,
и мимолетным счастьем озарен
дом на полянке в гущине лесной.
МАЛЬЧИК
Он у окна сидел, полураздет,
И видел, как среди рассветной тьмы
Дорога убегает за холмы,
А над дорогой брезжит слабый свет.
Ему опять припомнился старик,
Что на скамейке задремал вчера.
Вокруг него шумела детвора,
Старик проснулся через краткий миг.
Был странным взгляд его, и странной - речь
(Улыбку прикрывала борода):
"Жизнь - это путь неведомо куда,
Но можно пользу из него извлечь".
Внезапно потянуло холодком.
И мальчик увидал в дали сквозной,
Себя, усталого, в полдневный зной
Куда-то прочь бредущего пешком.
Дорога уводила в пустоту,
Не позволяя повернуть назад.
Обулся, встал и через старый сад
Неторопливо зашагал к мосту.
ОБЛАКА
Совсем ребенком, помню, в день погожий
Я рядом с матерью лежал в траве,
Неспешно плыли тучки в синеве.
Спросила мать: "На что они похожи?"
И я кричал: "Я вижу - всадник скачет,
Там - Скандинавия! Овца! Пастух!"
Смеялась мать, меня хвалила вслух,
Но видел я: она украдкой плачет.
Я жил, не глядя в облачные дали,
Не поднимая взора от земли,
Пусть надо мною тучи строем шли