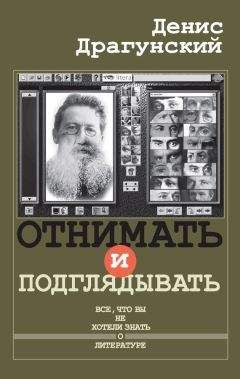Всё это, повторяю, мне кажется ясным, банальным, лежащим на поверхности. Хотя некоторые читатели со мною не согласны в смысле разрушения Большого Канона и убеждены, что есть ценностей незыблемая скала. Другие говорят: «А я все равно хочу читать бумажную книгу!» – и рассказывают о неувядающем очаровании пожелтевших страниц.
Что тут ответить? Да ничего. Дело вкуса. Никто не отнимает. Тем более что воздействие цифровых технологий – это не только доступность и бесплатность.
Цифровую революцию нельзя сравнивать с переходом от рукописной книги к печатной.
Дело куда серьезнее. Гораздо правильнее сопоставлять цифровую революцию с переходом от устной литературы к литературе письменной.
Устная литература – это прежде всего эпическая или ритуальная поэзия, а также сказки. Устная литература вся состоит из бесчисленных «запоминалок», то есть приспособлений для того, чтобы текст легко заучивался и пересказывался. Это мерный стихотворный ритм, стандартные зачины и финалы. Это постоянные эпитеты – волоокие и розовоперстые богини, добрые молодцы и красные девицы, лихие кони и подколодные змеи. И главное – стандартные сюжеты. Поэтому устная литература легко воспроизводится. Она, если можно так выразиться, весьма помехоустойчива. Кроме того, она очень обаятельна, потому что стандартные сюжеты сказок и эпических поэм отражают весьма древние и всеобщие психические конфликты; но это так, к слову.
Письменная литература создала все нынешнее многообразие жанров, и прежде всего создала прозу. Поэму о царях и героях можно петь и передавать из уст в уста; историческую хронику надо писать и читать. Философский афоризм может существовать в устной литературе, но философский трактат – нет. Анекдот, побасенка – да, рассказ, повесть и роман – нет.
Письменная литература создала особую святыню – суверенный текст. В содержание которого нельзя вмешиваться и который нельзя перекраивать. Прямо как государство с территориальной целостностью и невмешательством во внутренние дела. Появился суверен-автор, который один только имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим текстом. Имеет право создавать новые версии (например, инсценировки) – или уступать право на инсценировки. Имеет право получать вознаграждение. И самое главное, имеет право считаться автором.
Главная святыня – или, если угодно, главный предрассудок – зрелой письменной литературы: текст, чтобы считаться хорошим, должен непременно быть оригинальным. То есть без подражаний, а тем более без неоговоренных заимствований. Очевидно, это требование проистекает из авторского права, то есть в конечном итоге из экономических аспектов литературной практики. Конечно, нехорошо, когда кто-то старается и сочиняет, а подлец плагиатор получает деньги за чужой труд, то есть перепродает краденое. Ну, если не прямо под своим именем публикует чужие тексты, то все равно облегчает себе жизнь, присваивая чужие находки в смысле сюжета или особо удачных метафор. Впрочем, не все так просто: когда большой писатель заимствует у маленького, это почти в порядке вещей. Если наоборот, то ай-яй-яй.
Цифровая революция началась с общедоступности и практической бесплатности литературных текстов. Авторам, однако, надо что-то зарабатывать. Поэтому сейчас ищутся другие способы авторского вознаграждения, не столь прочно связанные с экономической собственностью на текст. В связи с этим надо полагать, что текст довольно скоро утратит свою неприкосновенность – не только внешнюю (кто хочет, тот и публикует), но и внутреннюю (кто какие хочет кусочки, такие и заимствует).
Кстати, поисковая машина сможет распознать любые заимствования. Выдать об этом отчет. И уж конечно, составить баланс платежей. То есть ты, дядя автор, перекатывай. Хочешь у классиков, хочешь – у современников. Но машина и читателю расскажет, откуда что взялось, и начислит тебе ровно столько, сколько ты сам заработал.
Хотя свободным цитированием дело, конечно же, не ограничится.
Цифровая революция позволит не только заимствовать, но и переделывать тексты.
Кстати, эпоха бумажной литературы породила миф об «аутентичном тексте». Или, что не совсем то же самое, но так же свято, – о «каноническом тексте». Аутентичный текст – вышедший из-под пера автора. Но вариантов у текста может быть несколько, и все они – аутентичные: сам автор писал, своей рукою! Канонический – это, грубо говоря, текст из последнего академического издания, подготовленный во всеоружии филологической науки (речь, ясное дело, идет о классической и особенно о древней литературе). Но год от года отыскиваются новые рукописи, заново прочитываются зачеркнутые места – и канонический текст меняется от издания к изданию.
Вот, кстати, важное изъятие из авторского суверенитета: цензура. Какие-то места романа могли быть переписаны автором по требованиям цензуры, какие-то – вообще удалены. А потом издатель хочет всё удаленное вставить на место, а всё искаженное восстановить в первоначальном виде. Бывают и более причудливые сюжеты – когда сначала восстанавливается бесцензурная версия, а потом некоторые издатели снова возвращаются к цензурной (недавняя история с пушкинской «Сказкой о попе и работнике его Балде»).
Бывает, что после всех филологических стараний «каноническим текстом» становится текст, который в данном виде вообще никогда не существовал. Он не лежал на письменном столе перед автором, его не держали в руках читатели первого издания. Однако он считается наиболее точным и исправным.
Филолог Джон Максвелл Эдмондс восстанавливал – проще говоря, сам писал – стихи великого греческого поэта Алкея по обрывкам, цитатам и позднейшим пересказам. Поэт и тоже филолог Вячеслав Иванов переводил их с греческого на русский, тоже внося свое понимание. И что? И ничего. Всё равно это стихи Алкея, а не Эдмондса – Иванова.
Переводы – это вообще страшное дело. В каком переводе надо читать Шекспира? Даже внутри русской литературы возникают проблемы. Взять главную древнерусскую летопись, «Повесть временных лет». Что выбрать – Лаврентьевский список в переводе Лихачева или Ипатьевский список в переводе Творогова?
Ответить на самом деле не так просто. Конечно, «Война и мир» – это обязательная школьная программа уже для нескольких поколений. Хочешь не хочешь – прочтешь. Все, что надо запомнишь и экзамен сдашь. Но вопрос мой не о том, насколько человек усвоил содержание и смысл романа – это очень субъективно и неуловимо. Вопрос другой: известно, что «Войну и мир» (как и другие классические, но чрезвычайно объемистые тексты) читают не полностью. Опускают философские рассуждения и исторические описания, перескакивают через скучные места и внимательно читают интересные страницы. Итак, какой процент «Войны и мира» надо прочитать, чтобы иметь право сказать «я читал»? Можно ли ограничиться хорошим пересказом плюс к тому внимательно прочесть, скажем, сцену охоты на волков, описание смерти маленькой княгини, а также разговор Пьера с французским капитаном Рамбалем в разоренной Москве? Я нарочно выбираю куски, которые можно воспринимать отдельно. Это не вставные новеллы, Боже упаси, – но они, на мой читательский взгляд, вполне самодостаточны.
Далее. Человек, который прочитал первую редакцию «Войны и мира» – легкую и весьма занимательную, без историко-философских отступлений и без диалогов по-французски; с поспешно подвязанными сюжетными ниточками в последних главах; со свадьбой Пьера и Наташи и Николая и Марьи на последней странице; где князь Андрей и Петя Ростов остаются живы… – этот человек прочитал «Войну и мир»?
А человек, который прочитал только завершенную, четырехтомную версию и не знает, из какой странности она выросла, – можно ли сказать, что он понял что-то про роман Толстого?
Может быть, чтобы иметь право сказать «я прочитал “Войну и мир”», надо прочесть обе версии? Вряд ли. Но и пересказом в духе Луначарского – «роман о девице, которая была помолвлена с одним, потом влюбилась в другого, но в итоге замуж вышла за третьего» – тоже ведь нельзя ограничиваться. Истина где-то посередине. Но где эта середина?
Да и вообще, читая «Войну и мир» в современной орфографии, мы уже читаем нечто другое. И не понимаем тонкую игру Маяковского, назвавшего свою поэму «Война и мiр» – то есть не War and Peace, как у Толстого, а War and World. Скажут: ах, яти и еры – это ерунда. Допустим. Но что же тогда не ерунда? И где граница между ерундой и неерундой – в смысле манипуляций с текстами?
Букридеры следующих поколений несколько перестроят взаимоотношения читателя и текста. Тем самым – изменят самоё литературу.
О таких мелочах, как тематические подборки рассказов по требованию читателя, я и не говорю.