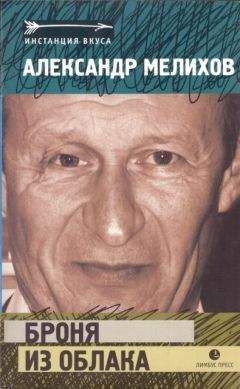Подчинение желаний индивида некоему общепринятому духовному руководству Дюркгейм назвал сплоченностью общества. В падении сплоченности он и усматривал глубинную причину роста самоуничтожений. Однако этого рода «сплоченность» вовсе не означает взаимной любви — уменьшение самоубийств может идти рука об руку с возрастанием преступности. Кастовые, патриархальные общества с низким уровнем самоубийств современному человеку представляются просто ужасными, но — в них и угнетатели, и угнетенные, и даже преступники одинаково смотрят на вещи, существующий порядок представляется им единственно возможным, они имеют объекты совместного поклонения.
Именно освобождение желаний из-под контроля общества, утрата единства норм и ценностей, по мнению Дюркгейма, являются причиной резко повышенного уровня самоубийств в двух группах: люди свободных профессий и дельцы.
Люди свободных профессий, составляя наиболее культурную часть общества, лучше других понимают, что под луной нет ничего абсолютно справедливого, абсолютно достойного, абсолютно красивого, — что считается красивым у одних народов, безобразно у других, где-то невинность девушки свидетельствует о ее непорочности, а где-то всего лишь о непривлекательности, где-то превыше всего ценится талант, а где-то родовитость, все бренно, все преходяще, ничто не вызывает безоговорочного восторга и безоговорочной, не рассуждающей ненависти, — а потому и ни одна цель не захватывает до конца.
Культурному человеку, «умнику» обычаи собственного народа не представляются единственно возможными, а неспособность толпы усомниться в них лишь усугубляет презрение к людям — с их преклонением перед властью, богатством, ловкостью, жестокостью, с их примитивными вкусами, с их доверчивостью к нелепым и злобным слухам, к демагогам и колдунам (экстрасенсам) — и недоверие к пророкам и ученым… Все так, но драма в том, что люди представляют собой практически единственную земную цель всякого творчества. Одиночество — это не отсутствие собутыльников, одиночество — это никем не разделяемая любовь к чему-то. Например, к своему таланту…
Самоубийства этого рода Дюркгейм называет эгоистическими — именно пренебрежение к людям, считает он, лишает жизнь цели.
Но ведь все эти утонченности недоступны «делягам», на первый взгляд сориентированным на собственное брюхо? Однако и они озабочены вовсе не брюхом, а социальным успехом, а последний не имеет естественных границ. Желаниям может положить границу лишь авторитет, который мы уважали бы внутри себя, а не напоказ. В патриархальном, замкнутом обществе роль такого ограничителя исполняет общепринятый обычай: пария не мечтает стать брамином, а крепостной — барином.
Но в обществе, нацеленном на безграничное обогащение, на безграничное движение ввысь, для притязаний исчезают всякие рамки, — дельцы более всего страдают от непомерно разрастающихся аппетитов: они легко «рискуют необходимым в надежде приобрести излишнее», а неудача представляется вселенской катастрофой…
Итак, «умники» утрачивают цель своей деятельности, а «деляги» — границы своих потребностей. В итоге же культура становится не роскошью, а средством выживания. В начале века рост образования резко увеличивал вероятность самоубийства. Революция, по-видимому, лишь усугубила этот процесс: по оценке Л. Лейбовича (1923 год) грамотность увеличивала склонность к самоубийству в 3–4 раза, а высшее образование — чуть ли не в 50 раз. Но в последние годы советской власти картина была обратной: среди людей с высшим образованием уровень самоубийств был понижен примерно в 1,5 раза, а отсутствие среднего образования в 2,5 раза увеличивало его. Ибо необразованность уже не связана с приверженностью к традициям, нынешний крестьянин такой же прагматик, как и банкир. Зато больше всего спасительных иллюзий сегодня, на мой взгляд, осталось у интеллигенции. Беззащитная социально, она лучше других защищена экзистенциально.
Многое с тех пор переменилось — самоубийства в Венгрии несколько пошли на убыль, хотя жизнью там недовольны все, кого я ни спрашивал, но — что же делать, жить-то надо! Только в этом и вся разница — то казалось, что «не надо», а теперь кажется, что «надо». Боюсь, по единственной этой причине наши самоубийцы сегодня опередили венгерских. А в Соединенных Штатах чернокожие стали чаще убивать себя из-за повышения их жизненного статуса: получая образование, они отрываются от привычной среды, а в новом, хотя и более высоком, общественном слое пока что не принимаются до конца, да, может быть, и сами не вполне принимают его. Самоубийства сопутствуют всяким обновлениям — и в худшую, и в лучшую сторону.
В Германии позапрошлого века ситуация после франко-прусской войны была полностью противоположна нашей — не «развал», а объединение страны, не «бегство» капиталов, а их приток из-за границы (огромные репарации), не экономический спад, а экономическое оживление, — и сопутствующий этой недосягаемой мечте стремительный рост самоубийств. И стремительное их падение с началом Первой мировой войны — при сопутствующем падении уровня жизни и нарастании всевозможных тревог и ужасов: возникает общее дело, в несчастьях начинают видеть норму жизни…
Сегодня в тех странах, где реформы идут сравнительно успешно (Польша, Чехия), уровень самоубийств все равно существенно выше дореформенного. В Прибалтийских же республиках эта тенденция выражена еще более отчетливо. Зато в России уровень самоубийств в образованном слое по-прежнему ниже, чем в необразованном — хотя и бедность, и утрата статуса особенно больно ударила именно по интеллигенции. Впрочем, старых добрых большевиков не смущала и обратная картина: судя по отрывочным публикациям, уровень самоубийств среди лиц с высшим образованием в 20-е годы в десятки раз превосходил средний уровень. Который, впрочем, тоже рос: с 23-го по 26-й год — в полтора (!) раза. Однако нарком Семашко тогда не без гордости писал, что возросший уровень самоубийств среди женщин свидетельствует об их возросшей социальной активности. Дело знакомое: «наши» самоубийства — самые прогрессивные. Тем не менее, вскоре было сочтено более благоразумным вообще закрыть тему — оказалось, на шестьдесят лет. Но любопытно напоследок взглянуть, до какой степени Октябрьская революция годилась на роль снижающего уровень самоубийств «общего дела», каковым несомненно была «Германская». Посмотрим сначала на Петербург: 1913-й год — 29 самоубийств на 100 тыс. жителей, 1915-й — 11(!), 1917-й — 10, 1919 — 24 (рост в 2,5 раза!), 1922-й — 30, 1925-й — 34. В Москве в эти же годы соответствующие цифры менее выражены, но качественно сходны: 1913-й — 21, 1915-й — 11, 1917-й — 7, 1919-й — 9, 1922-й — 14, 1925-й — 17. По сравнению с 1917-м годом рост в 2,5–3 раза! Где же вы были, тогдашние директора племсовхозов?
Сегодня россиянам непрестанно навязывается абсолютно бесплодный и деморализующий их образ — образ беспомощных жертв кучки мошенников и политиканов, а не участников трудного, мучительного, но огромного и важного общего дела, гуманистического возрождения России. Пигмеизация политики, которой наперебой занимаются защитники униженных и оскорбленных, наиболее болезненно отражается именно на тех, кого они якобы защищают. Защищают социально, уничтожая их экзистенциальную защиту.
Красота защищает от самоубийств. Но может к ним и подталкивать, если национальная культура считает самоубийство в определенных ситуациях доблестью. Самураев, например, с детства учили убивать себя даже без оружия и со связанными руками — прокусывая себе язык, чтобы истечь кровью; индийскую женщину тоже с малолетства готовили к сати — добровольному сожжению в случае смерти мужа, — в противном случае и ее, и ее семью ждал страшный позор. Однако такие самоубийства было бы точнее назвать самопожертвованиями, они совершаются не в надломе воли, но, напротив, в предельной ее мобилизации.
Образцы для подражания могут жить в преданиях, но могут лежать и совсем близко, — заразительность самоубийств отмечалась не однажды и в монастырях, и во вполне светских учреждениях закрытого типа. Разговоры в семье о каком-то покончившем с собой родственнике тоже не проходят бесследно. Дюркгейм описывает семейство, прямо-таки преследуемое роком: все девушки из этой семьи, достигнув совершеннолетия, пытались покончить с собой, — но если им это не удавалось, попыток уже не повторяли. В этом же самом семействе воспитывалась приемная дочь, ни с кем не находившаяся даже в отдаленном родстве, однако этого не знавшая. И все же с приближением совершеннолетия ее начали преследовать неотступные мысли о самоуничтожении, — пока она, не выдержав, не рассказала о них приемным родителям. Те, посовещавшись, почли за лучшее признаться, что она им вовсе не дочь, — и зловещие мысли немедленно оставили ее навсегда.
Если в какой-то части общества бытует образ «романтического самоубийцы», можно быть уверенным, что у него найдутся подражатели. Есенин, Хемингуэй, Ван Гог, Маяковский, Цветаева наверняка поселили у многих представление о том, что покончить с собой способны лишь люди выдающиеся, — этим романтикам будет полезно узнать о поразительно высоком уровне самоубийств среди унтер-офицеров, а также среди оленеводов малых народностей Севера.