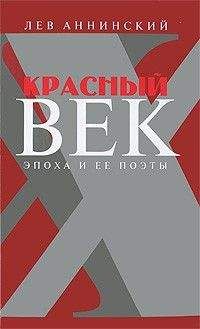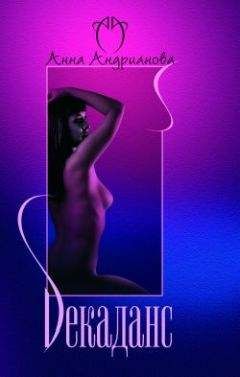Это диковатое племя, в котором явно скрестились земля, туман и звери, описано с той долей "ласкательности и интимности", с какой Миклухо-Маклай увековечивал папуасов. Но именно такова блоковская "Русь" в первом приближении. Русь пьяная, нищая, плачущая в кабаке. Понятна такая Русь разве что на этнографическую глубину — дальше она непонятна. "За дремотой — тайна". Тайна притягивает смутно чаемой "первоначальной чистотой", которая прячется за этой дремотой, за нищетой и дикостью. "И в лоскутах ее лохмотий души скрываю наготу". Нагота безрадостна, чистота несчастлива. Печален простор, сумрачен свет, зловеща правда, приоткрывающаяся в таинственной дали. "Пред ликом родины суровой я закачаюсь на кресте…"
Всякое прикосновение к Сфинксу, называемому "Россией", — это попытка примериться к самым гибельным ее чертам. К ее "разбойной красе", к ее "острожной тоске", к ее туманной, обманной, узорной, запутанной судьбе. Но без ужаса нет для Блока любви, без русской безнадеги нет для него русской реальности. Это врезано на века и, как все гениальное, просто:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые
Как слезы первые любви.
Чем страшней, тем родней. Россия не поддается ни свету, ни праведности — только темному греху. "Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и, с головой, от хмеля трудной, идти сторонкой в божий храм…" Поразительна точность "примет" этой неуловимой души, этого размазанного быта, вся русская классика от Гоголя до Лескова поработала над тем, чтобы Блок мог точными штрихами набросать портрет купца-праведника, который отмаливает грехи на заплеванном полу церкви, а потом, икая за чаем и слюнявя купоны, вспоминает, кого и как он надул.
…И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне…
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
Другой он ее не ведает. Не хочет знать. Не верит, что она способна быть другой. Воистину, безнадежная любовь — самая лютая. Объект любви должен быть затуманен: ясность добьет его.
Притом некоторые прозрения Блока — в части исторических перспектив — рельефны до ясновидения. Например, вот это:
Над старым мраком мировым
Восходит солнце твердой власти,
Напечатанное в 1919 году, это стихотворение кажется гимном диктатуре, подслушанным у врат ГУЛАГа под слепящими красными звездами. Но это написано в 1899 году, и, скорее всего, под "сверкающим троном", к подножью которого вот-вот "потекут" народы, подразумевался трон Романовых, на котором как раз в ту пору укреплялся Николай П. Что не мешает Блоку, слегка поправив стихотворение, (но абсолютно не приспосабливая его к новым реалиям!), — пустить его в печать двадцать лет спустя.
Туманность контуров, глубоко запрятанная "немота" и столь раздражавшее Зинаиду Гиппиус хождение ОКОЛО загадки — вот что делает Блока по-своему неуязвимым. Он служит “России", не расшифровывая ее.
Фантастические (с точки зрения людей последовательных) поступки Блока могут быть поняты только в этом вакуумном контексте. Например, шествие с красным флагом во главе революционной колонны в октябре 1905 года. Или — в сентябре 1914-го — возглас: "Война — это прежде всего ВЕСЕЛО!" По логике вещей человек, протестующий против мерзостей царизма, не должен веселиться, когда царизм начинает войну, мерзость которой очевидна; человек, решивший служить Прекрасной Даме, не должен ходить с флагами на политические демонстрации…
Но поэт, ежесекундно пророчащий гибель и возмездие, делает именно это: он торопит события, поворачивается навстречу гибели, гасит ужас весельем. В этой маяте — все едино:
Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться…
Вольному сердцу на что твоя тьма?
Сердце не вольное — сердце плененное, зачарованное. Света не будет — будет тьма вечной неразгаданности:
Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила да Меря намерила
Блестящий каламбур этой строчки сделал ее почти пословицей, и она как бы выпала из общего орнамента, но по существу ни один элемент нельзя вычленить из черно-белого вихря, в котором сливается все: серебро и чернь, царь и Ермак, Европа и Азия — несходимые края и "разноплеменные народы", все, что охвачено таинственным словом "Русь".
За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни…
"Очи татарские" — это Русь? Или это то, во что глядится Русь? Загадочна стилистика и загадочна символика "Поля Куликова" — самого сильного блоковского произведения на русскую тему. Традиционно русская ценность: "древняя воля" — переброшена татарам. Традиционно татарская привязка: "степь" — переброшена Руси. Татарская вольница — против русской степной прочности-крепости: полный оборот смыслов! Вражий шум: скрип телег и людской вопль на татарской стороне (как это описано Блоком в статье "Народ и интеллигенция" ПАРАЛЛЕЛЬНО стихотворному циклу) в стихах отфильтрован: в "шуме" оставлены две романтические ноты: "орлий клекот" и "плеск лебедей". Они и осеняют татарский "черный" стан в противовес русскому, где с "серебра" смыта "пыль".
То есть: все эмоциональные акценты как бы обернуты. Если учесть, что “Русь” никогда и не окрашивалась у Блока в этнические тона, а если окрашивалась, то отнюдь не только в славянские, но и в финские, да и в татарские тоже, — можно понять то внутреннее смятение, то ощущение распутья и даже потери пути, которое вопиет из куликовского цикла:
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!
Та же статья "Народ и интеллигенция" открывает нам исток этой безысходности. "Поле Куликово" — метафора, парафразис совсем другого противостояния. Блока мучает противостояние народа и интеллигенции. "Русь" — это народ: полтораста миллионов жителей Российской Империи, погруженных "в сон и тишину". А "поганая орда" — это русская интеллигенция: полтораста тысяч крикунов, ополчившихся против своего народа.
В ситуации 1909 года это психологически понятно и даже предсказуемо: как раз в эту пору выходит сборник "Вехи", где интеллектуальная элита пытается отречься от интеллигентского наследия. Но Блок, кажется, и без всяких "Вех" приходит к этому убеждению; достаточно Клюеву обвинить его в "интеллигентской порнографии" (и за что! За "Вольные мысли"!), и Блок ему верит ("Другому бы не поверил"), мучается, что он — "интеллигент", и ждет страшной развязки, а то и накликает:
"Почему дырявят древний собор? — Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть; тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью.
Все так.
Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь".
Тут — разгадка "балаганчика", подлинная суть блоковской драмы: возмездие. И не только блоковской. Блок ее только завещает.
ВОЗМЕЗДИЕ — тема, кровавой нитью проходящая сквозь поэзию Серебряного века. Одни поэты видят себя орудием возмездия. Маяковский. Хлебников. Клюев. Другие — объектом его. Ахматова. Мандельштам. Ходасевич. Иные же в ужасе обнаруживают, что по иронии истории попали из правых в виноватые, причем без вины. Гумилев. Пастернак. Цветаева. Но невыносимое ощущение ВИНЫ, когда жертвой должен стать ТЫ САМ, и это СПРАВЕДЛИВО, — только у Блока. Может быть, еще потом — у Есенина, но без такой ясности: "конем не объедешь".
Главное произведение Блока, над которым он мучительно и безнадежно работает всю жизнь, — поэма "Возмездие". Роман в стихах — по светлым, классическим, пушкинским заветам. Попытка собрать жизнь вокруг истории семейства. Собрать "энциклопедию русской жизни". Собрать вселенную.