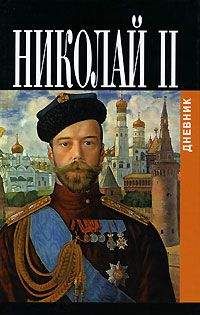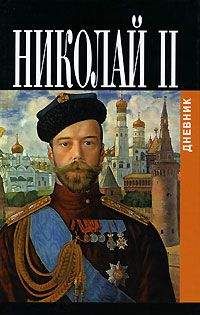На первых порах, ещё не вполне разобравшись в том, какой клокочущий котёл ожесточённых политических страстей представлял тогдашний Петроград, Горький придерживался увещевательного тона. Он полон надежды на людской рассудок и старается убрать долгожданную революцию в берега, из которых она вдруг почему-то выплеснулась столь безумным образом. Наметившееся торжество невежества, а зачастую и уличного хамства заставило его воскликнуть во весь голос: «Граждане, культура в опасности!»
Он писал:
«Наша страна велика, обильна естественными богатствами, но мы живём грязно и несчастно, как нищие…
Несмотря на неисчислимое количество даров природы… мы не можем жить продуктами своей страны, своего труда. Промышленно-культурные страны смотрят на Россию, как на Африку, на колонию, куда можно дорого сбыть всякий товар и откуда дешёво можно вывозить сырые продукты, которые мы, по невежеству и лени нашей, не умеем обрабатывать сами. Вот почему в глазах Европы мы — дикари, бестолковые люди, грабить которых, так же как негров, не считается зазорным».
Обилие иностранцев не прошло мимо внимания писателя. Над взбаламученной Россией закружились тучи воронья в предчувствии богатейшей поживы (хотя он даже не подозревал, что за преступное гнездо свили они в гостинице «Франция», где поместилась многочисленная миссия «Международного Красного Креста», состоявшая сплошь из американцев). В разгар лета Горький напечатал сообщение о том, что в США какие-то ловкачи создали акционерное общество с капиталом 20 миллионов долларов. Их цель — скупка и вывоз из России её неисчислимых национальных богатств.
«Россию грабят не только сами русские, а иностранцы, что гораздо хуже, ибо русский грабитель останется на родине вместе с награбленным, а чужой улепётывает к себе, где и пополняет за счёт русского ротозейства свои музеи, свои коллекции».
Грабёж сокровищ стал набирать угрожающие размеры. В Петрограде неизвестные лица разорили дворец герцога Лейхтенбергского и пышный зал Сената. В Царском Селе ободрали Мавританские бани. В Петергофе разграбили Монплезир и Большой дворец.
Горький напрямую обращался к власти:
«Правительство должно немедля опубликовать акт о запрещении вывоза из России предметов искусства».
За лето горьковская «Новая жизнь» набрала изрядный авторитет. Её живо читали, её цитировали, на неё ссылались. Естественно, со своей безыскусственной прямотой она вскоре стала кому-то поперёк горла. Началась полемика, участились обидные колкости и грязные намёки (особенно усердствовали солидная «Речь» и бульварная «Живое слово»). Искусно запускались слухи, что Горький-обличитель сам потихоньку скупает бриллианты и… порнографические альбомы.
С душевной болью великий писатель восклицал:
«Посмотрите, насколько ничтожно количество симпатии у каждого и вокруг каждого из нас, как слабо развито чувство дружбы, как горячи наши слова и чудовищно холодно отношение к человеку».
И добавлял:
«Мы добивались свободы слова затем, чтобы иметь возможность говорить и писать правду. Но — говорить правду, это искусство труднейшее из всех искусств».
Бесцеремонность разнузданной газетной братии удержала «Новую жизнь» от участия в травле Ленина и большевиков (немецкие деньги, немецкий запломбированный вагон и пр.). Бесспорно, Горький понимал, что дыма без огня не бывает, но слишком уж тогда неистовствовала всевозможная человеческая сволочь. К тому же, не забудем, писатель считался личным другом Вождя большевиков.
Между тем имя Ленина всё чаще произносилось в большой квартире Горького на Кронверкском проспекте. Проходило лето, надвигалась осень, обещавшая быть тревожной, грозной. После июльских беспорядков, после VI съезда партии большевиков, прошло Государственное совещание в Москве, быстро вспыхнул и погас корниловский мятеж. Страну лихорадило, усиливались бестолковщина, анархия, развал. В квартире Горького проходили многолюдные собрания, — однажды вечером там появился даже адмирал Колчак. Обсуждались фантастические планы спасения России, громогласно говорили о зловредном влиянии масонства и еврейства. Горький уже не протестовал. От юрких картавых людишек пестрило в глазах. В «Новой жизни» он решил высказаться и на эту злободневную тему. Но перо его было осторожным, деликатным. Поводом послужила хамская статейка некоего Хейсина в газетенке «Живое слово». Бесцеремонность щелкопёра задела великого писателя за живое. Он решил прервать своё упорное молчание по этому животрепещущему в те дни вопросу.
«Я считаю нужным — по условиям времени — указать, что нигде не требуется столько такта и морального чутья, как в отношении русского к еврею и еврея к явлениям русской жизни.
Отнюдь не значит, что на Руси есть факты, которых не должен критически касаться татарин или еврей, но — обязательно помнить, что даже невольная ошибка (не говоря уже о сознательной гадости, хотя бы она была сделана из искреннего желания угодить инстинктам улицы) может быть истолкована во вред не только одному злому или глупому еврею, но — всему еврейству».
Больше он этой темы не затрагивал, боясь скатиться в мнении передовой интеллигенции на положение заурядного охотнорядца.
Хотя разлад в душе нарастал с каждым днём. Засилье картавых людишек превосходило все мыслимые пределы.
Если так пойдёт и дальше, что же будет, во что выльётся?
* * *
Осенью — об этом говорили и писали, — ожидалось вооружённое выступление большевиков. Горький считал, что эта акция лишь ухудшит положение страны. И он, ещё недавно утверждавший, что «революционный вихрь излечит нас, оздоровит и возродит», обратился к руководителям большевиков (считай — напрямую к прятавшемуся Ленину) в своей газете с просьбой не поднимать вихря, унять свои поползновения и дать утихнуть и без того обжигающим страстям.
На что он надеялся, предпринимая этот важный шаг? На свой громадный международный авторитет, на свои давние, тесные отношения с большевиками, наконец, на свои постоянные и щедрые отчисления в кассу партии?
Голосу великого пролетарского писателя не вняли. 26 октября на всю планету грохнуло носовое орудие крейсера «Аврора».
Временное правительство свалилось легко и безболезненно, словно отживший осенний лист. Керенский успел скрыться, остальных министров посадили в Петропавловскую крепость.
Немедленно возникли главные учреждения новой власти: ВЦИК, СНК и ВЧК.
Горький не сразу уразумел, что Вождь победившей партии Ленин занял место, которое в своё время занимали Столыпин, Горемыкин, Штюрмер, а в последний год князь Львов и Керенский. Высший же престольный пост достался почему-то не ему, а Янкелю Свердлову, еврею с толстыми губами, грубому, заносчивому, с ледяным взглядом сквозь лёгкие стёклышки пенсне. Ленин по субординации мог приказывать всем своим наркомам, в том числе и Троцкому и Дзержинскому, однако реальной властью для строгого подчинения этих персон он не обладал.
Революционное неистовство продолжалось. Особенный размах приняли пьяные погромы. Новые власти приняли грубые, но действенные меры и уже 6 декабря ввели в столице осадное положение. Застучали карательные выстрелы. Уличная вакханалия пошла на убыль, однако в повседневный обиход вошли повальные ночные обыски. Вваливались матросы и солдаты, увешанные оружием, переворачивали всё вверх дном. Уходили военные, приходили рабочие и работницы, тоже с винтовками, и с особенным азартом принимались рыться в сундуках с бельём.
Ночным налётчикам доставляло едкое наслаждение униженное безмолвие хозяев. Перед грубой вооружённой силой обыватель цепенел. Искали, само собой, пулемёты и винтовки, но если не находили, то удовлетворялись узлами с одеждой и бельём. Добыча уносилась, и хозяева радовались тому, что так дешёво отделались.
Имя Горького служило как бы охранной грамотой, но Шаляпина посетили, и не один раз. Великий певец бросился к властям, ему выдали документ за подписью наркома Луначарского:
ОХРАННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВО
Настоящим удостоверяю, что в запертых сундуках, находящихся на квартире Ф. Шаляпина, заключаются подношения, полученные Ф. Шаляпиным в разное время от публики. Имущество это никакой реквизиции подлежать не может и представляет собою ценную коллекцию, находится под покровительством Рабочего и Крестьянского Правительства.
Жена Шаляпина, Мария Валентиновна, плакала злыми слезами. Она негодовала на Горького, имевшего такое влияние на мужа. «Конечно, ему хорошо. Он с этим жидовьём живёт в обнимку!» Она ошибалась. Горькому было мучительно, он страдал. Его надежды, что русский народ, сбросив иго самодержавия, с радостью потянется к книжке, не сбывались. Народ тянулся к топору. Что же насчет «жидовья»… Засилье детей Израиля на самом деле было чудовищным. Он невольно вспоминал Лондонский съезд большевистской партии. Уже тогда он своими глазами видел изобилие нерусских физиономий и собственными ушами слышал отнюдь не шутливое предложение Григория Алексинского о желательности в партии «небольшого погромчика». Он читал в бурцевской газете «Общее дело» список «ленинского потока» политэмигрантов, проехавших в Россию через Германию. К сожалению, он ничего не знал об «уральском потоке» во главе со Свердловым и об «американском» во главе с Троцким и Бухариным.