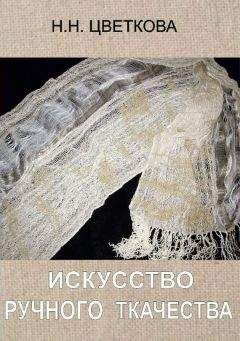Литературные вечера Дома начались редкими бесплатными выступлениями со свободным входом, приноровленными к каким-либо достопамятным литературным датам. Но огромный прилив публики обратил их очень скоро в постоянное учреждение, которое работало ежедневно и еще должно было открыть вспомогательное отделение – в Физической аудитории университета. Введена была платность, возраставшая в цифрах пропорционально падению советского курса, что нисколько не влияло на посещаемость вечеров. Когда я читал в Доме литераторов впервые, входной билет стоил 50 рублей; когда я читал в последний раз – 1500 рублей. Я не помню чтения, даже из неудачных, когда бы зал не был полон, по крайней мере на три четверти. На выступлениях же любимых Петроградом Кони, Тарле, академика Н. А. Котляревского, поэтов – увы, ныне уже покойных – Блока и Гумилева, историка С. Ф. Платонова, романиста Ф. К. Сологуба здание Дома литераторов ломилось от слушателей; вечера приходилось повторять по два, по три раза. И какая это была хорошая, чуткая публика! Как жадно она слушала, как участливо вникала! Я совсем не большой охотник до публичных выступлений, но ряд своих вечеров в Доме литераторов, когда я трижды читал свою повесть «Зачарованная степь» и, глава за главою, роман «Сестры», останется навсегда в числе моих лучших литературных воспоминаний. Но больше всего полюбила петроградская интеллигенция литературные поминки в разные юбилейные сроки. Дом литераторов устраивал их с большим мастерством и умел обратить некоторые дни в настоящие общественные события. Такова была пушкинская тризна, отмеченная блистательными речами академика Н. А. Котляревского и покойного Блока. Таков был вечер в память Достоевского, когда A. M. Ремизов прочел свою «Огненную Россию», так эффектно, остроумно и патетически снизанную из искусно подобранных предсказаний великого писателя-провидца, горестного пророка наших нынешних бед. Таковы были поминки великого нашего историка В. О. Ключевского с речами профессора Барскова, Кони, Котляревского и моею. Я покинул Петроград, когда Дом литераторов собирался с большим торжеством чествовать шестисотлетнюю годовщину кончины Данте Алигьери. Не знаю, состоялось ли это чествование, затеянное по очень широкой программе. Неведение мое тем стыднее, что инициатива празднества принадлежала мне и я должен был заняться его устройством. Но, увы, жизнь в том десятом кругу Дантова ада, который зовется советскою Россией, так отвратительно ужасна, что, когда мне внезапно представился случай из нее вырваться, я, при всей моей любви к Данте, при всем моем желании достойно почтить его и восславить устами русских писателей и артистов, оставил его годовщину на производящего, а сам бежал без оглядки… Литературные вечера чередовались с камерными концертами. Руководитель музыкального отдела Е. М. Брауде умел придать им серьезный и увлекательный характер. Концерты посещались, пожалуй, еще лучше, чем литературные вечера. Изобилие вечеров имело, однако, и свою отрицательную сторону. Публичность вечеров значительно стеснила внутренний быт Дома литераторов, и многие члены выражали небезосновательное недовольство тем, что наши гости, т. е. вечеровая публика, начинают иметь у нас в Доме чуть ли не больше значения, чем мы сами, хозяева, литераторы. Но вечера были необходимы, потому что как раз в это время большевики нанесли Дому страшный удар, потребовав, чтобы обеды литературной «столовки» также подчинились общему советскому порядку бесплатного питания. Для Дома это было равносильно смертному приговору. Ухудшить своих обедов до равенства с советскими он не мог, не уничтожив тем главного своего назначения – подкармливать голодающий литературный мир. А на хорошие харчи не стало средств, отпала доходность. Отстоять исключение из общего правила нашим дипломатам, понятно, не удалось. Казалось, что теперь избежать гибели Дом мог только сдачею на капитуляцию, поклонившись советскому правительству и поступив на содержание к его казне, по типу филантропически-кабальных учреждений М. Горького. Однако опять-таки невероятным напряжением дипломатической ловкости и финансовой оборотливости как-то вывернулись. Ежедневно полные вечеровые сборы поддерживали, хотя и очень с грехом пополам, шедшую целиком в убыток кухню. Чтобы задержать ее неизбежное банкротство, придумывали всякие обходные ухищрения: добавочные и дежурные блюда за особую плату, буфет, хозяйственные командировки в отдаленные местности для приобретения продуктов по вольным дешевым ценам. Все это, однако, были паллиативы и капли в море основного расхода по обязательству ежедневно накормить 500 человек лучше, чем кормит Петрокоммуна. Сверх того, большевики, успевшие уже весьма зорко насторожиться против Дома литераторов, безжалостно пресекали его коммерческие ухищрения. Особенно много неудач постигло командировки за дешевыми продуктами. Им чинились всякие препятствия, включительно до арестов уполномоченных агентов Дома. Один из таковых, попав в когти Чрезвычайки сибирского города Челябинска, был заморожен в холодной тюрьме до воспаления легких, и, когда я покидал Петроград, вести о здоровье этого бедняка были очень печальные. Притом одно дело приобрести продукты, а другое – привезти их. По дорогам ведь идет безудержный грабеж – и беззаконный, и узаконенный под псевдонимом реквизиции. Вывозит человек пуд, а привозит – дай Бог чтобы десять фунтов. Убийственная медленность разрушенного транспорта приводит в негодность скоропортящиеся продукты. Помню, что в таком черепашьем передвижении нам сгноили драгоценность – целый вагон конских голов. Лишь ничтожную часть можно было еще отобрать для превращения в весьма отвратительную колбасу, да и ту ели уж только очень смелые люди, с риском наглотаться трупного яда. Однако ничего: голодные желудки выдержали. Вдобавок затруднений в самой клиентуре Дома многие не понимали всей серьезности его финансового кризиса. Всякое вздорожание или добавочный расход вызывали громкое неудовольствие в писательской среде, вконец изнервленной бедностью, недоеданием, непосильным трудом, ужасною бытовою обстановкою…
Словом, когда я покинул Петроград в конце августа 1921 года, Дому литераторов приходилось плохо. Он очень напоминал маленькую цитадель, плотно обложенную неприятелем, который решил взять ее не штурмом, но измором. Начинается голод, и гарнизон-то держится еще крепко, но мирное население уже ворчит, и шныряют в нем двуличные смутьяны с двусмысленными речами о бесполезности сопротивления и о выгодах сделки с врагом, который-де хотя и негодяй, но не такой уж скверный черт, как его малюют. Удалось ли Дому еще раз самостоятельно выпутаться из своих бед или вынужден был он, наконец, склонить голову пред большевиками, я не знаю. Хотелось бы думать, что все там надежно по-прежнему, хотя вот, с другой стороны, берлинские газеты сообщают о состоявшихся выступлениях на кафедре Дома литераторов нескольких витязей соглашательства, которых доселе к ней на версту не подпускали. И это как будто свидетельствует, что цитадель не выдержала, какие-то компромиссы состоялись. Было бы глубоко жаль, но винить в том пришлось бы отнюдь не Дом литераторов. В последние 1920–1921 годы я был членом правящего его комитета и свидетелем героических усилий правления сохранить независимость учреждения от советского государства и, обходясь своими средствами, сберечь Дом как последний оплот интеллигентской самодеятельности и самопомощи. На общественную поддержку Дом рассчитывать не мог, при всем сочувствии к нему общества, ибо общество само большевиками раздето, разуто, живет в голоде и холоде. От заграничной помощи мы были отрезаны. Соглашательские учреждения М. Горького на крыльях большевицкой агентуры легко получали широкую возможность оповещать Европу о своих нуждах и рекламировать то крепостное закабаление ученых и художников, которое льстецы называют просветительной культурной филантропией советского режима. Напротив, об опальном Доме литераторов едва ли не первые слухи проникли за границу через советские заставы только летом 1921 года, благодаря главным образом связям покойного Абрама Евгениевича Кауфмана. Этот редкий человек именно уж положил душу свою за други своя, ибо переутомление на работе помощи братьям-писателям сломило его старческие силы, и в декабре минувшего года он скончался от разрыва сердца.
Это была третья смерть в комитете двадцати, избранных править Домом полгода тому назад. Раньше мы трагически потеряли обоих поэтов нашего содружества. Высокоталантливый, может быть, даже гениальный А. А. Блок погиб жертвою болезни сердца, развившейся на почве голодного истощения и моральных страданий, вызванных глубоким разочарованием в пролетарской революции, которою он поэтически увлекся было в 1917 году. Интереснейшая, жречески одухотворенная жизнь даровитого Н. С. Гумилева была дико прервана нелепым и подлым расстрелом за мнимую прикосновенность к мнимому заговору Таганцева. Двое из членов комитета, известный беллетрист A. M. Ремизов и я, эмигрировали. По последним газетным известиям, выбыл за границу и товарищ председателя Вас. Ив. Немирович-Данченко. Таким образом, комитет потерял более 25 % своего летнего состава. Остались: председатель академик Н. А. Котляревский, академик А. Ф. Кони, старый публицист «Нового времени» B. C. Кривенко, драматург и режиссер Александрийского театра Евт. Павл. Карпов, знаменитый романист Ф. К. Сологуб, известная беллетристка Е. П. Султанова-Леткова, переводчица северных писателей, классиков скандинавской литературы А. В. Ганзен, почтенный литературный критик «Русского богатства» A. M. Редько, представитель Союза драматических писателей Б. И. Бентовин, музыкальный критик Е. М. Брауде, фельетонист «Речи» В. Я. Ирецкий, репортер «Речи» Б. О. Харитон, репортеры «Дня» Н. М. Волковыский, В. Б. Петрищев. Последние четверо несли на себе всю тяжесть административного и хозяйственного распорядительства Домом. Из списка этого видно, что в комитете Дома литераторов были представлены все течения бывшей петроградской печати, от народно-социалистического «Русского богатства» и социал-демократического «Дня» до ультрамонархического «Нового времени». Казалось бы, должны были перегрызться, едва сошлись. В действительности под тучею общего бедствия шли дружно, как хорошо спевшийся хор.