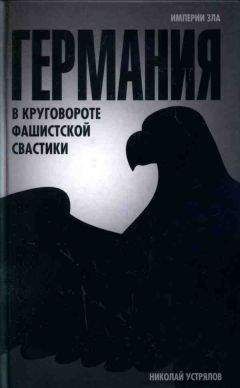мрачно, когда на него смотришь вблизи. Но если его возьмешь в большой перспективе, оно – лишь неизбежный признак жизни, хотя, быть может, и несколько грустный признак: было бы лучше, если б творчество не предполагало разрушения и, скажем, ценности языческой культуры мирно уживались рядом с явлениями христианства, а быт Людовика XIV – с атмосферой пореволюционной свободы личности…
Но ведь этого нет, и по условиям жизни земной, во времени протекающей, быть не может. Взять хотя бы эти два случайно всплывшие примера. Христианская культура, введенная в мир великой и мрачно прекрасной эпохой средневековья, началась с того, что безжалостно сокрушила бесконечное количество несравненных памятников древности. «Нашествие варваров внесло гораздо меньше опустошений в сокровищницу древней культуры, нежели благочестивая ревность служителей христианской Церкви» – говорит историк средних веков Генрих Эйкен. Равным образом тот безгранично рафинированный, виртуозно изящный быт двора Людовика XIV, который с такой любовью описан Тэном в первом томе его труда, исчез навеки, смытый революцией. Но ведь и средние века обогатили человечество потоком напряженнейшей и своеобразнейшей своей собственной культуры, и само нашествие варваров положило начало новой истории, приобщив свежие народы к разрушенной ими цивилизации, и французская революция внесла в европейскую историю самозаконный мир своих ценностей, ставших воздухом нового человечества и прославив Францию навеки.
Старый быт умирает, но не бойтесь – новая эпоха обрастает новым бытом, новой культурой. Благочестивые католики разрушили очаровательную древность, вдохновили и прославили убийц отступника Юлиана и многих других врагов христианства, – но не они ли подарили человечеству Бернарда Клервосского и Екатерину Сиенскую, Августина, Франциска, Данте?.. Великий Петр ниспроверг кондовый уют московской Руси, но не он ли заложил фундамент гранитной культуры петербургского великодержавия?.. Неистовства 93 года похоронили навсегда утонченные ароматы Версаля и старых французских поместий, но взамен не они ли дали миру «Микель-Анжело на троне» – Бонапарта и пышный индивидуализм 19 века? Войны Наполеона великие страдания принесли народам Европы, сокрушили много драгоценностей в Италии, Германии, Испании и других странах, разрушили старые стены Московского Кремля и устраивали конюшни в его храмах, – но разве не внесли они в мир новые прекрасные ценности – от ренессанса героического цезаризма до «Войны и мира» Толстого включительно?..
Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал… [15]
«Все прекрасное трудно» – утверждали греки. «Все прекрасное на земле требует искупительных жертв» – сказало христианство Голгофой. Все прекрасное достигается разрушением, страданиями, кровью.
«История – не тротуар Невского проспекта» – любил говорить Н.Г. Чернышевский.
Из всего этого отнюдь не вытекает, конечно, что следует поощрять, а не сдерживать конкретные проявления стихийной разрушительной силы, характерной для «критических» эпох. Но из этого вытекает, что подобные проявления не дают еще ни малейшего права считать такие эпохи бесплодными, злыми или постыдными.
Когда в дни последней войны немцев упрекали за лувенскую библиотеку и реймский собор, они отвечали устами своих идеологов: – «Если гений Германии восторжествует в мире, он его отблагодарит новыми ценностями, перед которым померкнут пострадавшие Реймс и Лувень». – Ответ, достойный народа Гете и Вагнера, Гегеля и Бисмарка…
…Я уже готов предчувствовать негодующий гомон: «Что это? Воспевание культурного варварства? Вандализм?»…
Пусть себе волнуются на здоровье. Никогда меня не трогали ни на волос все эти филистерские жупелы и убогие каноны в шоры облеченных интеллигентов, подобно «швабским поэтам», умеющих гордиться лишь своим «целомудрием»… [16]
И думается мне, что подобно тому, как современный француз на вопрос «чем велика Франция» вам непременно ответит «Декартом и Руссо, Вольтером и Гюго, Бодлером и Бергсоном, Людовиком XIV, Наполеоном – и великой революцией», – так и наши внуки на вопрос «чем велика Россия» с гордостью скажут: – «Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и великой русской революцией»!
2
Какое глубочайшее недоразумение – считать русскую революцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, кто закрывает глаза на всю русскую историю и, в частности, на историю нашей общественной и политической мысли.
Разве не началась она, революция наша, и не развивалась через типичнейший русский бунт, «бессмысленный и беспощадный» с первого взгляда, но всегда таящий в себе какие-то нравственные глубины, какую-то своеобразную «правду»? Затем, разве в ней нет причудливо преломленного и осложненного духа славянофильства? Разве в ней мало от Белинского? От чаадаевского пессимизма? От печеринской (чисто русской) «патриофобии» [17]? От герценовского революционного романтизма («мы опередили Европу, потому что отстали от нее»)? А писаревский утилитаризм? А Чернышевский? А якобизм ткачевского «Набата» [18] (апология «инициативного меньшинства»)? Наконец, разве на каждом шагу в ней не чувствуется Достоевский, достоевщина – от Петруши Верховенского до Алеши Карамазова? Или, быть может, оба они – не русские? А марксизм 90-х годов, руководимый теми, кого мы считаем теперь носителями подлинной русской идеи, – Булгаковым, Бердяевым, Струве? А Горький? А «соловьевцы» Андрей Белый и Александр Блок?..
Я мог бы органическую связь каждого из крупных русских интеллигентских течений прошлого и нынешнего века с духом великой русской революции подтвердить документально и надеюсь когда-нибудь это сделать. Факт этой связи не подлежит никакому сомнению, как бы его ни оценивать, как бы к нему не относиться.
Мы переживаем теперь какое-то магическое оживотворение всей истории русской политической жизни на фоне глубокой болезни нашего государственного организма. И пусть образы этой мысли в их нынешней лихорадочной интерпретации нередко похожи на бред, – все же это бред великого народа, в тысячу раз более содержательный и плодотворный, нежели здравое житие всякого рода дутых карликовых ничтожеств, высыпавших, подобно грибам, на нездоровом стволе современного человечества.
Нет, ни нам, ни «народу» невместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис – ни за темный, ни за светлый его лики. Он – наш, он – подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, – и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при «социальной революции», внешне с него скопированной…
И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что девяносто процентов русских революционеров – инородцы, главным образом евреи [19], то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются «чужие» руки, – душа у него, «нутро» его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, – интеллигентское, преломленное сквозь психику народа.
Не инородцы революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами революционерами, внешне или внутренно приобщившимися «русскому духу» в его нынешнем состоянии. Это – свойство