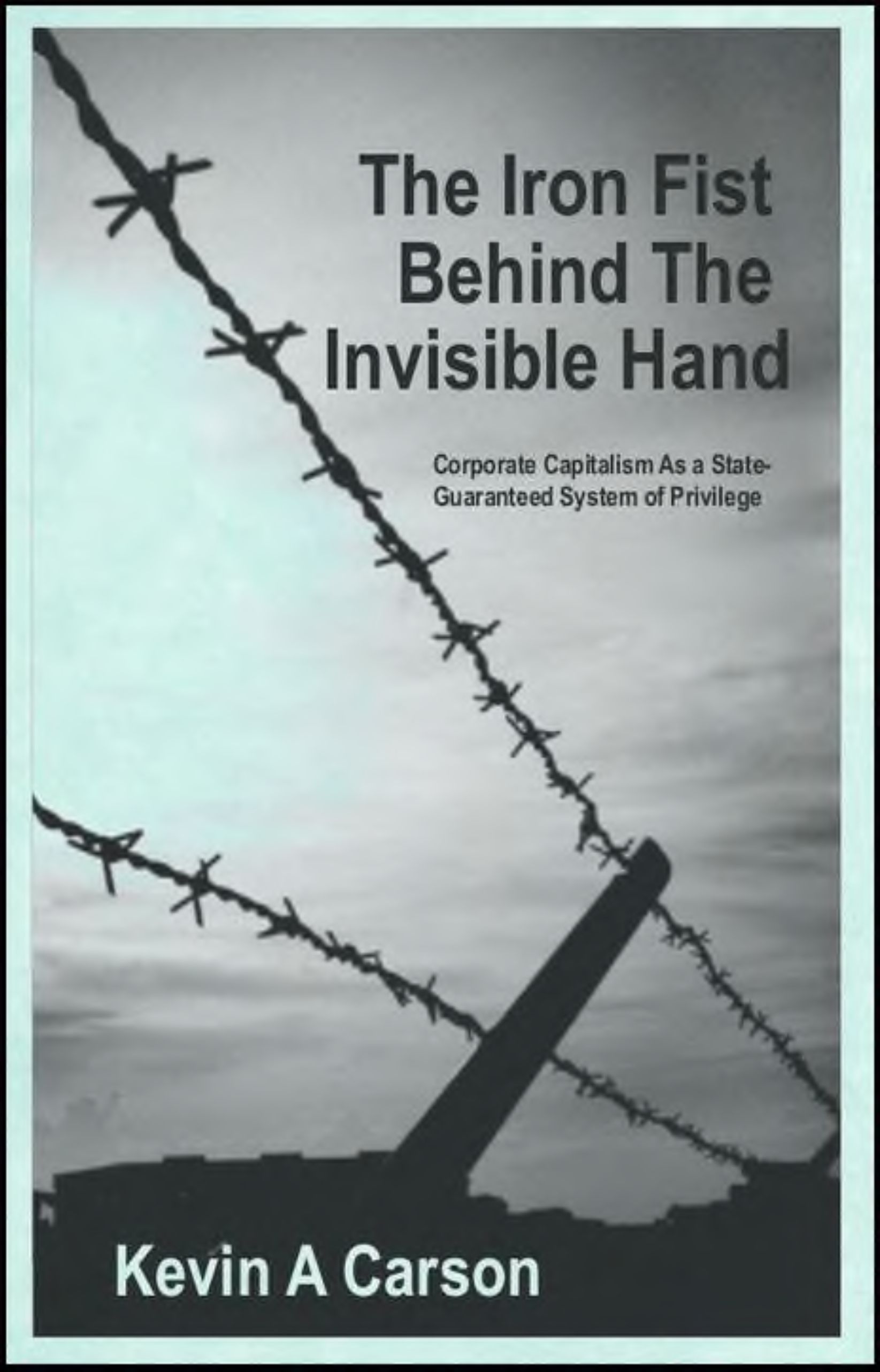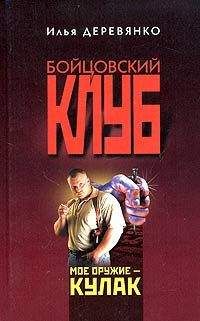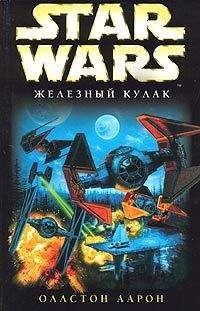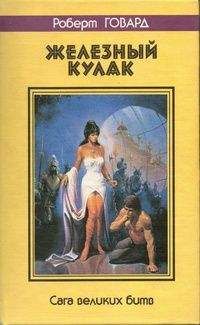меркантилизм. Современные сторонники «свободного рынка» обычно рассматривают меркантилизм как «ошибочную» попытку продвижения неких единых национальных интересов, принятую из-за искреннего незнания экономических принципов. На самом деле, архитекторы меркантилизма прекрасно знали, что они делают. Меркантилизм был чрезвычайно эффективен для своей истинной цели: обогащения богатых промышленников за счет всех остальных.
Адам Смит последовательно атаковал меркантилизм не как продукт экономической ошибки, а как вполне разумную попытку могущественных интересов обогатиться за счет принудительной силы государства.
Британское производство было создано путем государственного вмешательства, чтобы закрыть доступ к иностранным товарам, дать британскому судоходству монополию на внешнюю торговлю и силой подавить иностранную конкуренцию. В качестве примера последнего британские власти в Индии уничтожили бенгальскую текстильную промышленность, производившую ткани самого высокого качества в мире. Хотя они не перешли на паровые методы производства, существовала реальная возможность, что они сделали бы это, если бы Индия оставалась политически и экономически независимой. Некогда процветающая территория Бенгалии сегодня занята Бангладешом и районом Калькутты [Ноам Хомский, World Orders Old and New].
Американская, немецкая и японская промышленность были созданы в результате одной и той же меркантилистской политики с массовыми тарифами на товары. «Свободная торговля» была взята на вооружение благополучно укоренившимися промышленными державами, которые использовали «laissez-faire» в качестве идеологического оружия, чтобы не дать потенциальным соперникам пойти по тому же пути индустриализации. Капитализм никогда не устанавливался посредством свободного рынка или даже первичными действиями буржуазии. Он всегда устанавливался революцией сверху, навязанной докапиталистическим правящим классом. В Англии это была земельная аристократия, во Франции — бюрократия Наполеона II, в Германии — юнкера, в Японии — Мэйдзи. В Америке, наиболее близкой к «естественной» буржуазной эволюции, индустриализация была осуществлена меркантилистской аристократией федералистских судоходных магнатов и помещиков [Майкл Хэррингтон, Twilight of Capitalism].
Романтики-медиевисты, такие как Гилберт Кит Честертон и Хилэр Беллок, описали процесс, происходивший в период высокого средневековья, когда крепостное право постепенно сходило на нет, а крестьяне превратились в фактических свободных владельцев, плативших номинальную ренту. Феодальная классовая система распадалась и заменялась гораздо более свободной и менее эксплуататорской. Иммануил Валлерстайн утверждал, что вероятным результатом была бы «система относительно равных мелких производителей, дальнейшее выравнивание аристократии и децентрализация политических структур». К 1650 году тенденция была обращена вспять, и существовал «достаточно высокий уровень преемственности между семьями, которые занимали высокие позиции» в 1450 и 1650 годах. Капитализм, не будучи
« свержением отсталой аристократии прогрессивной буржуазией », « возник благодаря помещичьей аристократии, которая превратилась в буржуазию, потому что старая система распадалась» [Historical Capitalism, стр. 41-42, 105106]. Этому отчасти вторит Арно Майер [ The Persistence of the Old Regime], который утверждал преемственность между земельной аристократией и капиталистическим правящим классом.
Процесс, в ходе которого была свергнута высокая средневековая цивилизация крестьян-собственников, ремесленных гильдий и вольных городов, был ярко описан Кропоткиным [«Взаимная помощь как фактор эволюции», стр. 225]. До изобретения пороха свободные города чаще всего отражали королевские армии и завоевывали независимость от феодальных повинностей. И эти города часто объединялись с крестьянами в их борьбе за контроль над землей. Абсолютистское государство и навязанная им капиталистическая революция стали возможны только тогда, когда артиллерия могла эффективнее разрушать укрепленные города, а король мог вести войну против собственного народа. И после этого завоевания Европа Уильяма Морриса осталась опустошенной, обезлюдевшей и несчастной.
У Питера Тоша была песня под названием «Four Hundred Years» (« Четыреста лет»). Хотя белый рабочий класс не испытал ничего подобного жестокости черного рабства, тем не менее, в системе государственного капитализма, созданной в семнадцатом веке, было «четыреста лет» угнетения для всех нас. С момента возникновения первых государств шесть тысяч лет назад политическое принуждение позволяло тому или иному правящему классу жить за счет труда других людей. Но с семнадцатого века система власти становилась все более осознанной, единой и глобальной по масштабам. Нынешняя система транснационального государственного капитализма, не имеющая конкурентов со времен краха советской бюрократической классовой системы, является прямым следствием захвата власти «четыреста лет» назад. У Оруэлла все было наоборот. Прошлое — это «сапог, топчущий лицо человека». Будет ли будущее таким же, зависит от того, что мы делаем сейчас.
Идеологическая гегемония — это процесс, в ходе которого эксплуатируемые воспринимают мир через концептуальные рамки, предоставленные им их эксплуататорами. Прежде всего, она действует для того, чтобы скрыть классовый конфликт и эксплуатацию за дымовой завесой «национального единства» или «всеобщего благосостояния». Тех, кто указывает на роль государства как гаранта классовых привилегий, в театральных тонах морального возмущения осуждают за «классовую войну». Если кто-то окажется настолько непростительно «экстремистским», чтобы описать массивный фундамент государственного вмешательства и субсидирования, на котором покоится корпоративный капитализм, его обязательно упрекнут в «марксистской риторике классовой войны» (Боб Новак) или «риторике баронов-грабителей» (министр финансов Пол О’Нил).
Идеологическая основа «национального единства» доведена до того, что «эта страна», «общество» или «наша система правления» ставятся в качестве объекта благодарности за «свободы, которыми мы пользуемся». Только самые непатриотичные замечают, что наши свободы, отнюдь не дарованные нам щедрым и благосклонным правительством, были завоеваны прошлым сопротивлением государству. Хартии и билли о правах не были дарованы государством, а были навязаны ему снизу.
Если наши свободы принадлежат нам по праву рождения, как естественный моральный акт, то из этого следует, что мы не обязаны благодарить государство за то, что оно не нарушает их, так же как мы обязаны благодарить другого человека за то, что он воздерживается от грабежа или убийства. Простая логика подразумевает, что вместо того, чтобы быть благодарными «самой свободной стране на Земле», мы должны поднимать шум каждый раз, когда она посягает на нашу свободу. В конце концов, именно так мы и получили нашу свободу в первую очередь. Когда другой человек засовывает руку в наш карман, чтобы обогатиться за наш счет, наш естественный инстинкт — сопротивляться. Но благодаря патриотизму правящий класс может превратить свою руку в нашем кармане в «общество» или «нашу страну».
Религия национального единства наиболее патологична в отношении «обороны» и внешней политики. Истерия по поводу внешнего кризиса и войны использовалась с самого начала истории для подавления угрозы классовому господству. Продажные политики могут работать на «особые интересы» внутри страны, но когда те же политики затевают войну, это вопрос лояльности к «нашей стране».
Председатель ОКНШ, обсуждая «оборонную» позицию, будет с прямым лицом ссылаться на «угрозы национальной безопасности», с которыми сталкиваются США, и описывать вооруженные силы какого-нибудь официального врага, например Китая, как далеко выходящие за рамки «законных оборонительных требований». Самый быстрый способ выставить себя за рамки дозволенного —