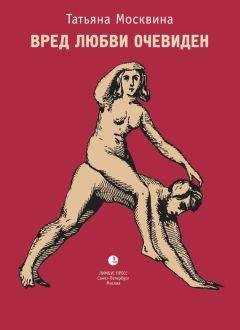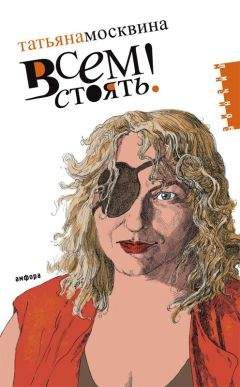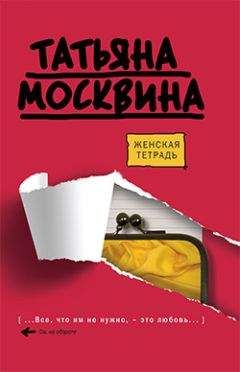Песня, которую Петрушевская сочинила целиком сама, прелестна, в ней говорится о странном друге, у которого половина лица была как будто освещена солнцем, а на другой словно шел дождь, он таился и скрывал свою душу от героини, пока она не ушла, свободная, своим новым путем. Видимо, этот неизбежный уход и предвидел друг…
Не привыкай, не привыкай к дождю!
Ты посмотри на меня – я ничего не жду…
А героиня так не может – ничего не ждать. И, видимо, Петрушевская тоже. Она – автор и действующее лицо одновременно. Не обласканная публичным вниманием (да и не любящая его вовсе), она в своей эльфической тишине работает над собой. Вот ведь задача – выработать собственный стиль пения! И выработала-таки. Потому что не думала о деньгах и славе – а только о любви к звучащему слову и к бессмертным мелодиям.
Она самовыражается, но не самоутверждается. Она царит на сцене по праву дара – а на самом деле служит тому, что больше нее и больше всех нас. (Музыке. Поэзии…)
Эта женщина совершеннейший молодец. Она абсолютна не нужна современности. Она нужна ей больше, чем кто бы то ни было.
Твердящие о «кризисе идей» в современном театре и кино – вы не хотите перечитать ее рассказы? Вы там найдете сто пудов идей. Только они, конечно, вряд ли вам подойдут. Ибо грязные люди не могут делать чистое искусство. И петь не могут.
А наш немолодой усталый эльф просто подобрал валявшееся на обочине искусство, поднял, отряхнул и прижал к груди. По женской домохозяйской привычке ценить хорошие вещи, которые еще могут пригодиться.
Вам не нужно – а нам нужно.
«Каждому свое» – где было написано? На каких воротах?
Ничего-то вы не знаете…
– Велик ли ваш репертуар?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: У меня сейчас тридцать песен. Недавно вот обнаружила «Блю канари», «блю» – это печальный, а совсем не синий и не голубой, «блю канари» – печальная канарейка. Блю-люблю – и пошло-поехало от одного этого звучания. Я хотела очень перевести «Маленький цветок» – а потом узнала, что ее исполнял еврейский оркестр возле газовых камер Освенцима, чтобы люди в очереди не пугались, они играли круглыми сутками, и многие из тех песен, что я пою, тоже там звучали. Этого композитора, которого у нас называют Ежи Петербургский, а по-польски он – Ежи Мелодиста. «Синий платочек» – это, кстати, тоже мужская песня, это у него в кармашке платочек, а не тот платочек, о котором пела Шульженко, – на плечах у девушки… А то, что я пою как «Старушка не спеша», – мелодия из мюзикла, написанного в 1933-м в Чикаго на языке идиш. В подлиннике такой текст: «несмотря на то что ты кривая, хромая и горбатая, ты все равно лучше всех». И на эту мелодию во время войны пели «Барон фон дер Пшик отведать русский шпик…», до войны тоже про старушку, которую остановил милиционер: «что несешь ты в сумочке, кусочек булочки, курочки», потом было «В кейптаунском порту с какао на борту»… Мой вариант уже пятый, так что? Это ничему не мешает. Равно как я сделала свой вариант «Лили Марлен», и стали раздаваться голоса, какое она право имеет переводить после Иосифа Бродского. Смешно даже. Я могу после кого угодно перевести – это моя любимая песня, что делать.
– В этих очаровательных песенках заключен целый мир нежных чувств, полный нюансов, которого в реальной жизни еще поискать. Этот мир нежных чувств – он окружен, на ваш взгляд, плотной темной стеной, обрекающей его на вымирание, или он есть еще в действительности? Или уже только на сцене?
ПЕТРУШЕВСКАЯ: Вы, может быть, уже сами ответили на ваш вопрос… Я размышляла над этим. Мир нежных чувств для женщины, которая уже отрожавшая, что называется, отслужившая, во многом невозможен. Но этот романтический мир существует в кино, в опере, в книгах, на концертах, в кабаре. И оттуда человек может взять эти чувства, чтоб их испытывать в другом измерении. Потому что искусство дает человеку то, чего у него нет. Часто ли приходит к человеку любовь? Нет, редко, а с песней она может прийти, и ты можешь испытать то, что было раньше, когда-то…
Для меня огромное значение имеет свет, вот он падает откуда-то, вечерний свет, я вижу его, меня охватывает ощущение счастья. Или я слушаю музыку – опять счастье. Или я вижу прекрасное лицо человека, и мне хочется плакать, я вижу человека, с которым никогда и ничего меня не будет связывать, и у меня в душе начинают капать слёзы, я знаю – этот человек самое прекрасное, что есть на свете, и я прощаюсь с ним навсегда. А через несколько лет приходит весть, что он погиб.
Всё это – чистая поэзия. Сюжет для небольшого рассказа…
Не такого уж небольшого, Людмила Стефановна!
Имя Россия, фамилия Грозный
На экраны вышла картина Павла Лунгина «Царь» – произведение во всех отношениях незаурядное. XVI век, разгул опричнины. Иван Грозный, великий государь-самодержец огромной страны, – человек гениальный, убежденный в своей богоизбранности. Он призывает бывшего друга – митрополита Филиппа для помощи в строительстве самодержавного государства. Но оказывается, что милосердный Бог Филиппа несовместим с карающим Богом Ивана Грозного… Выдающиеся актерские работы Олега Янковского и Петра Мамонова, конечно, обеспечат фильму напряженное зрительское внимание. Но о картине неминуемо будут спорить, поскольку все ключевые фигуры нашей истории – до сих пор фигуры спорные. Об этом наш разговор с режиссером фильма ПАВЛОМ ЛУНГИНЫМ.
– У меня такое впечатление, что вы делали свой фильм для отечественной аудитории, не высчитывая, как примут «Царя» в мире, так?
ЛУНГИН: Я, знаете, несмотря на хитрое выражение лица, парень простоватый, даже простодушный, и что умею, то и делаю. Меня действительно подозревают, что я делаю на потребу западному зрителю, а кто ее знает, эту потребу? Как будто это так легко. Кто бы знал, давно обогатился. Я как раз все больше и больше отхожу от западного мейнстрима и вхожу в русские проблемы, которые меня куда больше волнуют и допекают. Я становлюсь старше и вроде должен быть мудрее, а абсолютно ухожу куда-то вбок, на меня наши опытные киноведы уже смотрят с ужасом, как будто я мамонт волосатый.
– Что же поманило вас в образе царя Ивана Грозного, ведь, скажем прямо, это не тот человек, с которым мы могли бы выпить и закусить?
ЛУНГИН: Выпить-то мы с ним, может, и смогли бы, но вот успели бы мы закусить? Иван Грозный – это зарождение русской самодержавной власти как феномена. Это картина о зарождении такой власти в России, и это рождение переплелось с личностью Ивана Грозного – неординарной, жуткой, талантливой, пугающей, непредсказуемой. Эта личность – ЦАРЬ – захватила место Бога в этом мире и стала требовать обожествления и всеобщего преклонения. До сих пор там лежат и корни наших проблем, до сих пор мы живем в тени Грозного, она витает над нами.
– О фигуре Грозного идут споры – есть историки, которые хотят опровергнуть его злодейства и деспотизм и утверждают, что он чуть не праведник и был тесно связан с православными святыми. Что вы думаете об этом?
ЛУНГИН: Главного святителя того времени митрополита Филиппа он убил, так что связь, конечно, прочная со святыми у него. Настоятеля Печерского монастыря, преподобного Корнилия, Грозный смолол в жерновах, так что рассуждения о святости Ивана Грозного – это досужие вымыслы. Он много каялся, и каялся лицемерно и талантливо – но практика его была ужасна. Фильм и посвящен тому, как Филипп восстает против тиранической власти царя. Вы не слушайте экстремистских историков, которые готовы записать в святые и Распутина, и, может быть, даже Сталина, вы читайте нормальные книги вменяемых авторов.
– Безумно двойственно всё в России! Невозможно хоть к чему-нибудь отнестись ясно, просто, благородно. Страшная двойственность, несоизмеримые противоречия отлиты в один кристалл. Оттого и дискуссии такие о личностях царей. Людям хочется ясности, а ее нет! Как вы для себя решаете, что делать с этой мучительной двойственностью?
ЛУНГИН: Я не могу внести ясности, я могу только запутать еще больше, потому что я не историк, я все как-то пропускаю сквозь себя, и у меня взгляд эмоциональный, художественный. Да, эта двойственность мучительна и в то же время ужасно интересна. Я ее увидел во времени Ивана Грозного, когда было словно бы два бога в России – один Бог Грозного, Бог власти, а другой – Бог добрый, Бог народа и митрополита Филиппа. Была правда официальной власти и была другая правда, которую все знали. Уже тогда, в XVI веке, люди жили в состоянии двоемыслия… Грозный был монстр, тиран, но и блестящий писатель, и умница, один из самых образованных людей своего времени, первая типография открыта при нем, собрана великая библиотека. Может быть, эта двойственность – и дар, и наказание русских. Может быть, если мы сами на себя посмотрим, то увидим эту двойственность сами в себе…
– Когда работали над своей картиной, пересматривали шедевр Эйзенштейна, фильм «Иван Грозный»?