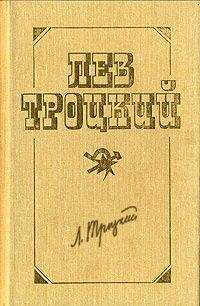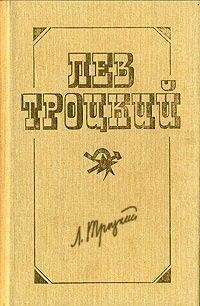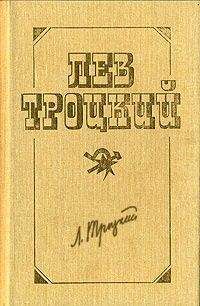Государство должно – это, разумеется, ясно – лучших рабочих путем премиальной системы поставить в лучшие условия существования. Но это не только не исключает, а, напротив, предполагает, что государство и профессиональные союзы, – без которых советское государство промышленности не построит, – получают на рабочего какие-то новые права. Рабочий не просто торгуется с советским государством, – нет, он повинен государству, всесторонне подчинен ему, ибо это – его государство.
«Если бы, – говорит Абрамович, – нам просто сказали, что дело идет о профессиональной дисциплине, не из-за чего было бы копья ломать; но при чем тут милитаризация?» Конечно, дело идет в значительной мере о дисциплине профессиональных союзов, но о новой дисциплине новых, производственных профессиональных союзов. Мы живем в советской стране, где господствует рабочий класс, – чего не понимают наши каутскианцы. Когда меньшевик Рубцов[140] говорил, что от профессиональных союзов в моем докладе остались только рожки да ножки, то тут есть доля правды. От профессиональных союзов, как он их понимает, то есть от союзов тред-юнионистского типа, действительно, осталось немногое, но профессионально-производственная организация рабочего класса в условиях Советской России имеет величайшие задачи. Какие? Конечно, не задачи борьбы с государством во имя интересов труда, а задачи построения, рука об руку с государством, социалистического хозяйства. Такого рода союз есть принципиально новая организация, которая отличается не только от тред-юнионов, но и от революционных профессиональных союзов в буржуазном обществе, как господство пролетариата отличается от господства буржуазии. Производственный союз правящего рабочего класса имеет не те задачи, не те методы, не ту дисциплину, что союз борьбы угнетенного класса. У нас все рабочие обязаны входить в союзы. Меньшевики против этого. Это вполне понятно, потому что они фактически против диктатуры пролетариата. К этому в последнем счете и сводится весь вопрос. Каутскианцы против диктатуры пролетариата и тем самым против всех ее последствий. Экономическое принуждение, как и политическое – только формы проявления диктатуры рабочего класса в двух тесно связанных областях. Правда, Абрамович нам глубокомысленно доказывал, что при социализме принуждения не будет, что принцип принуждения противоречит социализму, что при социализме будет действовать чувство долга, привычка к труду, привлекательность труда и пр. и пр. Это бесспорно. Но только эту бесспорную истину нужно расширить. Дело-то в том, что при социализме не будет самого аппарата принуждения, – государства: оно целиком растворится в производительной и потребительной коммуне. Тем не менее, путь к социализму лежит через высшее напряжение государственности. И мы с вами проходим как раз через этот период. Как лампа, прежде чем потухнуть, вспыхивает ярким пламенем, так и государство, прежде чем исчезнуть, принимает форму диктатуры пролетариата, т.-е. самого беспощадного государства, которое повелительно охватывает жизнь граждан со всех сторон. Вот этой мелочи, этой исторической ступенечки – государственной диктатуры – Абрамович, а в лице его и весь меньшевизм, не заметил и об нее споткнулся.
Никакая другая организация, кроме армии, не охватывала в прошлом человека с такой суровой принудительностью, как государственная организация рабочего класса в тягчайшую переходную эпоху. Именно поэтому мы и говорим о милитаризации труда. Судьба меньшевиков – плестись в хвосте событий и признавать те части революционной программы, которые уже успели утратить практическое значение. Меньшевизм ныне – хоть и с оговорками – не оспаривает законности расправы с белогвардейцами и с дезертирами из Красной Армии, – он это вынужден признать после своих собственных печальных опытов с «демократией». Он как будто понял – задним числом, – что лицом к лицу с контрреволюционными бандами нельзя отделываться фразами о том, что при социализме красного террора не понадобится. Но в области хозяйства меньшевики все еще пытаются отослать нас к нашим сыновьям и особенно внукам. Однако же хозяйство нам приходится строить сейчас, не медля, в обстановке тяжелого наследия буржуазного общества и еще незавершенной гражданской войны.
Меньшевизм, как и все вообще каутскианство, утопает в демократических банальностях и социалистических отвлеченностях. Снова и снова обнаруживается, что для него не существует задач переходного периода, т.-е. пролетарской революции. Отсюда безжизненность его критики, его указаний, планов и рецептов. Дело не в том, что будет через 20 – 30 лет, – тогда, разумеется, будет гораздо лучше, – а в том, как сегодня выбиться из разрухи, как сейчас распределить рабочую силу, как сегодня повысить производительность труда, как, в частности, поступить с теми четырьмя тысячами квалифицированных рабочих, которых мы извлекли на Урале из армии. Отпустить их на все четыре стороны: «ищите, где лучше, товарищи»? Нет, мы так не могли поступить. Мы посадили их в воинские эшелоны и отправили по фабрикам и заводам.
«Чем же ваш социализм, – восклицает Абрамович, – отличается от египетского рабства? Приблизительно таким же путем фараоны строили пирамиды, принуждая массы к труду». Неподражаемая для «социалиста» аналогия! При этом упущена все та же мелочь: классовая природа власти! Абрамович не видит разницы между египетским режимом и нашим. Он забыл, что в Египте были фараоны, были рабовладельцы и рабы. Не крестьяне египетские через свои Советы решали строить пирамиды, – там был иерархически-кастовый общественный строй, – и трудящихся заставлял работать враждебный им класс. У нас принуждение осуществляется рабоче-крестьянской властью во имя интересов трудящихся масс. Вот чего Абрамович не заметил. Мы учились в школе социализма тому, что все общественное развитие основано на классах и их борьбе и что весь ход жизни определяется тем, какой класс стоит у власти и во имя каких задач проводит свою политику. Вот чего не понимает Абрамович. Может быть, он хорошо знает Ветхий Завет, но социализм для него – книга за семью печатями.
Идя по пути либерально-поверхностных аналогий, не считающихся с классовой природой государства, Абрамович мог бы (и в прошлом меньшевики не раз это делали) отождествить красную и белую армию. И там и здесь шли мобилизации по преимуществу крестьянских масс. И там и здесь имело место принуждение. И там и здесь не мало офицеров, прошедших одну и ту же школу царизма. Те же винтовки, те же патроны в обоих лагерях, – какая же разница? Разница есть, господа, и она определяется основным признаком: кто стоит у власти? Рабочий класс или дворянство, фараоны или мужики, белогвардейщина или питерский пролетариат. Разница есть, и о ней свидетельствует судьба Юденича, Колчака и Деникина. У нас крестьян мобилизовали рабочие; у Колчака – белогвардейское офицерство. Наша армия сплотилась и окрепла, белая – рассыпалась в прах. Нет, разница между советским режимом и режимом фараонов существует, – и недаром питерские пролетарии начали свою революцию с того, что подстреливали на колокольнях Питера фараонов{11}.
Один из меньшевистских ораторов попытался мимоходом изобразить меня, как защитника милитаризма вообще. По его сведениям, выходит, видите ли, что я защищаю не более не менее, как германский милитаризм. Я доказывал, изволите видеть, что германский унтер-офицер, это – чудо природы, и все, что он творит – выше подражания… Что я говорил на самом деле? Только то, что милитаризм, в котором все черты общественного развития находят наиболее законченное, отчеканенное и заостренное выражение, может быть рассматриваем с двух сторон: во-первых, политической или социалистической – и тут он целиком зависит от того, какой класс стоит у власти; и, во-вторых, с организационной, как система строгого распределения обязанностей, точных взаимоотношений, безусловной ответственности, суровой исполнительности. Буржуазная армия есть аппарат зверского угнетения и подавления трудящихся; социалистическая армия есть орудие освобождения и защиты трудящихся. Но безусловное подчинение части целому есть черта, общая всякой армии. Суровый внутренний режим неотделим от военной организации. На войне всякая неряшливость, недобросовестность и даже простая неточность нередко влекут тягчайшие жертвы. Отсюда стремление военной организации довести ясность, оформленность, точность отношений и ответственности до наивысшего предела. Такого рода «военные» качества ценятся во всех областях. В этом смысле я и сказал, что каждый класс ценит у себя на службе тех членов своих, которые, при прочих равных данных, прошли военную выучку. Немецкий – скажем – кулак, вышедший из казармы, в качестве унтер-офицера, был для немецкой монархии и остается для республики Эберта дороже, ценнее того же кулака, не прошедшего военной выучки. Аппарат германских железных дорог был поставлен на большую высоту в значительной мере благодаря привлечению унтер-офицеров и офицеров на административные должности в путейском ведомстве. В этом смысле и нам есть кое-чему поучиться у милитаризма. Тов. Цыперович,[141] один из виднейших наших профессиональных работников, свидетельствовал нам здесь, что рабочий-профессионалист, который прошел военную выучку, который занимал, скажем, ответственный пост комиссара полка в течение года, отнюдь не стал от этого хуже для профессиональной работы. Он вернулся в союз тем же пролетарием с ног до головы, ибо он сражался за дело пролетариата; но он вернулся закаленным, возмужавшим, более самостоятельным, более решительным, ибо он побывал в очень ответственных положениях. Ему приходилось руководить несколькими тысячами красноармейцев, разного уровня сознательности, – в большинстве своем крестьян. Он с ними пережил и победы и неудачи, наступал и отступал. Бывали случаи предательства командного состава, кулацких мятежей, паники, – он стоял на посту, сдерживал менее сознательную массу, направлял ее, воодушевлял своим примером, карал предателей и шкурников. Этот опыт – большой и ценный опыт. И когда бывший комиссар полка возвращается в профсоюз, он становится не плохим организатором.