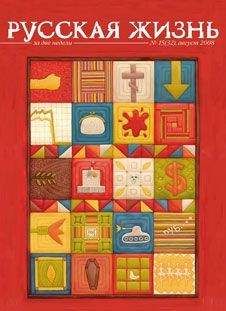С пластинки на меня смотрело обрадованное лицо Бориса Моисеева. За окном тихо колыхалось огромное ночное озеро. Начиналась песня про Ленинград и Петербург.
* ХУДОЖЕСТВО *
Денис Горелов
Паромщик
Александр Прошкин и фильм «Живи и помни»
Найдись деньги, он бы мог «Дон Кихота» поставить.
Путь Прошкина - каменистая стезя книжника в аграрной стране, минное поле заведомых иллюзий и запланированных разочарований. И млечный, зыбкий, едва уловимый зов не становящейся ближе коренной родины. Как ауканье с баловной недотыкомкой в трех соснах, русалкин смех да переплеск в омутах: не суйся, паныч, пропадешь.
Все свои фильмы снял он об отторжении безъязыкой, пуганой, косолапой и чумной во гневе страной пусть худородного - да белотелого, пусть и красящегося в свои - да иноплеменного барина.
В «Холодном лете - 53» городские троцкисты-утописты-вредители выясняли отношения со слободской нечистью на глазах редкого северного леса и редкого северного народа, валунов да шишиг. Местные трусили, подлизывались, хмуро наблюдали истребление собак и порчу девок. Провожали пароходы. Ставили скрипучие крестики.
В «Русском бунте» по «Капитанской дочке» чужаки решали вечный для русских элит вопрос личной причастности красному колесу народной воли: расстрига Швабрин отрастил волос, растворился и сгинул - противленец Гринев дерзил косматой стихии, но случаем нежданным выруливал из огня-полымя в негаданную царскую милость, хоть и сочувствовал самозванцу по гроб. Роль изменника отошла лучшему на весь фильм артисту Маковецкому; Петю с Машей, совсем уж явно педалируя инородство имущих сословий, играли поляки Даменцкий и Грушка, а озвучивали татары Башаров и Хаматова.
В «Докторе Живаго» вынужденные гости сугробов и хуторов толкали при лучине неподъемные монашеские монологи, которые ни у кого сил не хватило дослушать. Утопическая идея породнения с лапотной Россией ломала самого Пастернака, выдавливая из него монотонный, как железная дорога, полный несущественной людской мошкары роман, спасенный от скорого забвения совокупными усилиями Нобелевского комитета и анафематствующего Хрущева. Прошкинской трактовке оказался на удивление близок голливудский лубок о черноусом египтянине, заброшенном в дальнюю лярюсскую избушку к лютым казакам и хрустальным сосулькам. Шариф и Джулия Кристи были зачарованными европейцами в плену у диких снежных мужиков. Варварская конница скакала по брюхо в красивом снегу, напитывая адреналином невероятные приключения иностранцев в России, - редкий случай, когда иноземное прочтение вышло вполне адекватным по сути.
А ведь был еще предлинный «Михайло Ломоносов» - «анженерной работы мост» меж столицами и тьмутараканями. Используемый в период сталинского неоклассицизма для выедания очей городским снобам, архангельский мужик в руках Прошкина дерзал связать два соседних космоса окающим говором да потешным париком.
Даже в шуточном «Трио» иноприродные менты пытались сродниться со своею висельной, каторжной, душегубной родиной, и даже удачно (приняли за своих, на перегоне стали руки ломать, права зачитывать), и лиходеев успешно прижучили; а в конце скороговоркой: первый погиб, второй после ранения выбился в начальство, третья вышла за итальянского копа и живет в Сорренто. Вечный итог слишком настойчивых шашней с отечеством.
Уже в «Живаго» видна вся тщета попыток этих Гишаров, Гордонов, сомнительных Громек стать русскими, свойскими, приблизиться и слиться. Бросается в глаза мягкая, застенчивая попытка Пастернака (а за ним и Прошкина со сценаристом Арабовым) поправить, оспорить толстовское «Хождение по мукам» про революционизированных дворян: уж мелкий-то бес Комаровский куда как явно срисован с чертушки Бессонова, да и бал господского порока, толкающий чистых сердцем мещан подале, в искреннюю гущу усобицы, писан близко к каноническому тексту. Беда в том, что у ловкого подтасовщика Толстого герои живые и действующие, а у честного провидца Пастернака - все какие-то фантомные тени, пустоты, носители рефлексивной авторской мудрости. Потому обе экранизации «Доктора» и не вызвали особенных протестов, что представить себе живьем всю эту бледную армию пикейных жилетов, а после, как водится, оскорбиться режиссерским произволом и ставкой на негодных артистов - невозможно. В памяти один провалившийся в бочку очкарик как символ всей этой гадкой и нелепой, как душный сон, истории.
Попытки утрясти отношения гостиной с курной избой всегда были односторонними и всегда - самоубийственными. Изба брататься не желала, а редких подвижников - докторов да народных помещиков вроде Левина - осваивала и тупила; о том чеховский «Ионыч». Лев Толстой, как многим помнится, «любил подолгу говорить перед крестьянами о гуманизме и гражданственности. Крестьяне его очень любили за это, брали деньги в долг и называли Левой». Дворник Маркел то и дело встревал внутрь семейной барской фотографии, чтобы пробурчать на ходу нечто бессвязно-пророческое типа: «Не может сом с уклейкой жить». Он же, некогда олицетворявший для верхних этажей подмандатный народ, станет и душеприказчиком опростившегося и сломавшегося Юрия: не ищи, мол, в черни правды и глубин, довольствуйся дворником.
И вот Прошкин, все дальше вынужденно дрейфуя от нив и сараек, длинных врытых в землю столов и неказистых мужичонок в бабьем царстве, снова снял кино о таком чужом среди таких своих, но будто в пику - не о городском-ученом-испорченном, а о самом что ни на есть местном, после честной и справной службы взявшемся отлынивать от народного ратного дела. И сразу давняя распутинская история кругом неправого отшельника вдруг обнажила и нарочитость диковатого говора, и тоскливые нравы крестьянской дыры, и фатальную несвоевременность постановки. Война, бывшая последним связующим звеном столь редко рассеянного по тундрам и суглинкам народа, что его даже чума не взяла, сегодня отмирает именно в качестве клея «Суперцемент»; той мертвой воды, что сращивала огрызки плоти перед опрыскиваньем живою. Входящим во взрослую жизнь поколениям участники войны стали прадедами, а это уже четвертая, дальняя, архивная степень родства. Вникать в маету и вину изменившего допотопной общине изгоя - слишком неподъемная задача для сугубо столичного, чуждого укладом зрителя. Переход с неловкой пушкинско-пастернаковской прозы поэтов на спорую распутинскую (ее еще, желая укусить, зовут «добротной») как будто конституирует происходящую ныне первую русскую демократизацию, разгосударствление, возвращение голоса миру трудодней, огородов и семечек, выбившее из-под прошкинского кино почву. Сбывшийся мелкокулацкий рай впервые в русской истории даровал образованщине право на снобизм, на дистанцию, на отход в сторону - чуя непоправимое, народник Прошкин впервые глаголет голосом пейзанской Атлантиды и честной попыткой лишь расширяет пропасть. Все эти убедительно произнесенные дочерьми столбовых кинематографических фамилий Мороз и Михалковой «чо», «карасин», «не сумлевайся», «отскочь не морочь, я тя не знаю» откровенно режут слух. Культивируемый двадцатым веком долг родства с большою родиной уже не кажется столь благородно очевидным. Певец придонной России Балабанов намедни крутенько поиздевался над этим посылом чувственной мелодекламацией «И травинка, и лесок, в поле каждый колосок» - характерно, что страна приняла эту фигу за чистую патриотическую монету.
Именно сейчас, на старых прошкинских фильмах, видно, насколько не за свой, а за примеренный на себя государственный грех винилось разночинное сословие перед дальней далью - ответное ползучее охамление быта, управления, телевидения ежедневно топчет уже его мещанский интерес. Оттого Быков задним числом выкатывает честный разбор всей дуболомной, назойливо кишащей просторечиями деревенской прозе. Оттого даже в астафьевских сочинениях то и дело достают до печенок швыряющие ворогов в поганый ручей закомплексованные труженики-богатыри. Оттого черной скукой несет и от прошкинского ледолома, битья в рельсу, пьяных застолий и праздничной дроби по половицам. Парадоксальным образом, забившийся в медвежий угол бирюк-дезертир становится ближе десятилетиями навязывающего себя «обчества». Лучше отшельническая немота, чем кособокий, косорукий, косоротый и косорылый базар, все эти настырно заковыристые «мшаники», «бочажки» и непременный графоманский «окоем». Если б дезертир еще каждый секунд не совал в кадр дедову бляху с двуглавым орлом - цены б ему не было.
Тихо отмирает одно из базовых (после кино о войне и кино о школе) ноу-хау русского кинематографа - фильм о деревне. С бабьим большинством, весенней распутицей, кирзовыми сапогами в любую погоду, с баней - хранительницей семьи и деревянными детскими гробиками ранней зимою. Ясно было, что отпоют его первым, ибо никого, кроме русских, ни шукшинское кино, ни салтыковский «Председатель», ни Нонна Мордюкова за трактором не занимали ничуть. Интересно, что в последний путь его провожает режиссер все-таки городской и в истошном колодезном славянофильстве не замеченный. Накатит на него стих - он в следующий раз заделает что-нибудь совсем эскапистско-декадентское вроде «Черной вуали», был и такой у него фильм - с ятями, пиковым тузом и мужской сеточкой для волос.