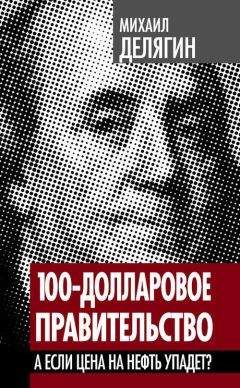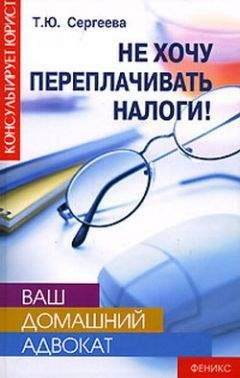Однако идеологизация чревата снижением качества решений, как мы видели на примере Советского Союза.
Кроме того, в настоящее время основа этой идеологизации – европейские ценности и расширение сферы их применения, то есть расширение Евросоюза, – сталкивается с двумя фундаментальными вызовами.
Прежде всего противоречие между политическим равноправием его членов и различным уровнем их развития, как хозяйственного, так и культурного, ослаблено Лиссабонским договором за счет равноправия. Надежды же на быстрое «подтягивание» новых членов к лидерам оказались еще более беспочвенными, чем аналогичные надежды советской цивилизации, – таким образом, Евросоюз сделал шаг назад от равноправия, что представляется существенной эрозией европейских ценностей.
Кроме того, кризис, по всей видимости, остановил расширение как Евросоюза, так и еврозоны: у развитых стран больше нет ресурсов для расширения, а страны-кандидаты не могут выполнять требования (исключения незначительны). «Восточное партнерство» – лишь паллиатив, способ привязки к себе элит стран-соседей и расчистки юридического пространства для экспансии европейского бизнеса.
Таким образом, Евросоюз, этот экспансионистский и направленный на неуклонное расширение проект, теперь из экстенсивного поневоле становится интенсивным – и это должно весьма скоро изменить весь его облик. Не стоит забывать, сколько прожил другой интеграционный, советский, проект после того, как под давлением внешних обстоятельств отказался от территориальной экспансии.
Ведь отказ от насаждения своих ценностей, от их экспансии сам собой, автоматически ставит вопрос об их справедливости и подрывает их, а с ними – и идентичность их носителей. В самом деле: отказ от насаждения своих ценностей автоматически означает признание их не-универсальности, то есть неполноценности в современном мире.
Болезненной проблемой Евросоюза является слабость европейской самоидентификации, даже на уровне элит, – если, конечно, ориентироваться на стратегические решения, а не тосты и другие официальные заверения.
Неприятие континентальной Европой агрессии против Ирака в 2003 году создало для ее лидеров уникальную возможность освободиться от американской интеллектуальной опеки и начать самостоятельно определять свое развитие. Поразительно, что связанная с этой свободой ответственность смертельно напугала тогдашние европейские элиты, отвыкшие от нее, – и их паническое возвращение под комфортный контроль «старшего брата»(которого можно всласть порицать и винить во всех смертных грехах, включая собственные ошибки) стало сутью «трансатлантического ренессанса».
Существенна для руководства Евросоюза – возможно, из-за высокой идеологизации – и проблема морали. Переписывание истории, насаждение демократии в Афганистане и Ираке при толерантности к ее «дефициту» (по официальной формулировке) в Латвии и Эстонии, попустительство практике апартеида и государственной реанимации фашизма в некоторых членах Евросоюза, торговля людьми (продажа Милошевича за обещание 300 млн долл. правительству Джинджича – без этого они оба были бы живы), одобрение государственных переворотов под видом народного волеизъявления – все это глубоко аморально и в корне противоречит европейским ценностям в том виде, в котором мы привыкли их признавать.
Проявлением морального кризиса Евросоюза является и априорная неравноправность сотрудничества с другими странами. Когда после 11 сентября 2001 года президент Путин в бундестаге на хорошем немецком языке предложил Евросоюзу пакт «энергия в обмен на технологии», официального ответа ему так и не последовало. Неофициально же России дали понять, что она от Евросоюза никуда не денется, ее энергия все равно будет работать на Европу, а свои технологии Евросоюз оставит себе как гарантию конкурентного преимущества над Россией.
Понимание диалога с нашей страной как диалога всадника с лошадью обусловлен, с одной стороны, выработавшейся за 1988–2003 годы привычкой к отсутствию у России каких бы то ни было национальных интересов, а с другой – пониманием, что критически важная часть личных активов нашей «правящей тусовки» находится именно в юрисдикции стран Евросоюза.
Однако он не способствует развитию сотрудничества, толкает Россию к Китаю и еще раз подтверждает, что всякая аморальность неминуемо подрывает жизнеспособность как отдельных людей, так и сообществ наций.
* * *
С началом кризиса развитые страны Евросоюза принципиально отказали в значимой помощи новым членам. Это разумно: и на себя денег нет, а благополучие зависимых стран определяется состоянием развитых, поэтому для выживания возможно большего числа слабых в замкнутой системе надо помогать сильным.
Но этот отказ зафиксировал разделение «единой Европы» на страны даже не двух, а четырех сортов: 1) крупных доноров; 2) развитых стран, обеспечивающих свои нужды (как правило, небольших); 3) крупных получателей помощи; 4) неразвитых стран, не имеющих политического влияния для получения значимой помощи.
Это — крах основополагающей идеи Евросоюза об однородной, равно развитой и, соответственно, равно демократичной Европе.
Поэтому не вызывает сомнений: европейский проект в том виде, в котором мы его знаем, завершен, и сейчас он интенсивно трансформируется во что-то иное, пока еще непонятное.
Развитая часть Евросоюза будет пытаться выходить из кризиса, бросив Восточную Европу «на потом».
Потребность развитых стран в «демонстрации успеха» в ближайшее время удовлетворят Эстония, вводящая евро, и Хорватия, вступающая в Евросоюз.
…А кто хочет с головой окунуться в Европу в этих условиях – дело доброе, только проверьте перед прыжком, есть ли вода в бассейне. Это не метафора:
современный глобальный кризис выходит далеко за рамки экономики, трансформируя – часто весьма болезненно – общественные институты, еще недавно казавшиеся естественными, почти природными, само собой разумеющимися. Для успешной работы в современном обществе приходится постоянно проверять прочность и дееспособность, казалось бы, незыблемых основ его устройства. Ведь кризис коснулся всего без исключения – и даже самой демократии.
Критикуя Россию за разнообразные циничные извращения демократии, осуществляемые под прикрытием лозунга о «суверенной» (а скорее, «сувенирной») демократии, нельзя закрывать глаза и на другое: в развитых странах, где она была иногда пару сотен лет, наблюдается кризис демократии.
Демократия, которая казалась нам чем-то незыблемым, вдруг приходит в движение, трансформируется, и механизмы ее отчасти перестают работать.
В определенном смысле это закономерно: человечество меняется, мы находимся в состоянии глубокой и серьезной трансформации – и старые институты потихонечку перестают работать.
За последние годы демократию стало принято считать чуть ли не религией Запада. Его представители четко и честно указывают: мол, наши ценности, наша идентичность – это демократия. Есть подозрение, что они слово «идентичность» употребляют, чтобы не говорить «религия».
Демократия выродилась в некий фетиш, символ, с которым нельзя шутить и который нельзя подвергать критическому осмыслению. Все уже выучили, что в присутствии исламистов не надо шутить про пророка Мухаммеда: это оскорбление чужих религиозных чувств. Точно так же – и почти по тем же причинам – в присутствии представителей развитых стран Запада в последнее время стало очень неловко шутить про демократию и критически ее анализировать.
При рассмотрении демократии как инструмента регулирования проблем и обеспечения развития такой подход выглядит необъяснимо странно. А вот если мы рассматриваем ее как религию, тогда все правильно: не надо оскорблять чужих религиозных чувств.
Но, поскольку мы люди свободные, не связанные страхом ни перед диктатом тоталитаризма, ни перед диктатом политкор– ректности, – мы можем свободно думать и говорить и о демократии в том числе.
Подобно тому, как в России нельзя пройти мимо Пушкина, в новейшей истории Запада нельзя пройти мимо Черчилля. Он сказал классическую фразу, которую человечество не забудет до тех пор, пока не поместит ее в учебники: «Демократия ужасна, но все остальные устройства общества еще хуже».
Отчасти появление этой фразы вызвано превращением в своего рода правило хорошего тона привычки путать содержательную и формальную демократию.
Демократия содержательная – это результат: такая организация общества, при котором система управления в наиболее полной степени учитывает его мнения и интересы. «Мнение» в этом определении стоит на первом месте потому, что эффективная и зубастая молодая диктатура учитывает интересы общества лучше любой демократии.