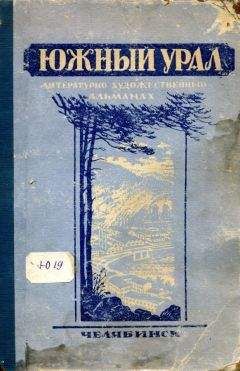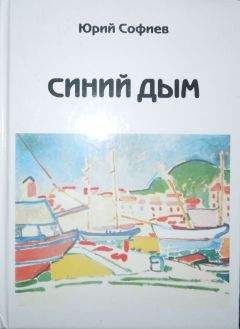ИНЖЕНЕР
Полночь.
Ударом ленивым
Бьют стенные часы;
Сквозь сон улыбаясь счастливо,
Лежит в колыбели сын.
А за стеною — стужа,
Свирепая воет метель.
Жена приготовила ужин,
Мягкую стелет постель.
Но отдых ещё не скоро,
Пусть тяжела голова, —
Годы бегут. Неизвестного — горы,
А на полке лежит словарь.
И час за часом проходит мигом.
В мёрзлых стёклах играет рассвет.
Инженер сидит, наклонясь над книгой:
Нашёл.
И снова ищет ответ.
Уже в окно золотою массой
Заглядывает восток.
Жена беспокоится: «Ты бы, Вася,
Прилёг вздремнуть на часок».
Инженер словарь отодвинул, —
Одолевает сон.
Взглянул в колыбельку сына
И тихо ответил: «Выспится — он».
Горы покрыты лесом:
Зелёным, бронзово-бурым.
Туманов скользит завеса,
Лесов открывая шкуры.
Лисьи они иль медвежьи —
Солнце на них забрезжит:
Пламенем вспыхнут осины
С жёлтой берёзой рядом.
Всё оно будто из воска —
Елей и сосен войско.
Светящиеся берёзки,
Осени грустный запах.
Осени жёлтые всплески,
Горы — медведи на лапах.
Песни любимым ладом
Пою этих гор громады,
Милые сердцу кручи,
Грядою летящие тучи,
Ручьи, родники, туманы,
Грохот реки Сыростана.
Дальше б уйти и выше,
Трогать туман руками,
Видеть, как рыба дышит,
Двигая плавниками.
С двустволкой по козьим тропам,
По листьям сухим, как порох,
В дыханье цветов и в шорох…
Где мчится олень за горы,
Где ящерицей сухою
Мелькнёт внизу за листвою,
За Ильменем, за церквушкой,
Размотав дымовую катушку,
За виадуком — скорый.
Выстрел доносится гулкий,
Зверей стихает шорох.
Словно на детском рисунке,
Солнце встаёт большое!
А где-то внизу, в лощине
Золото моет старатель,
Выпрямится морщинист,
Залюбовавшись закатом.
Глаз ослепляют краски,
Шагаешь густой травою,
Город назвали Миассом.
Миасс — это дно золотое!
Озёр и рек
железный нрав,
В движеньи их —
напор железный.
Вот так
орёл летит над бездной,
Крутые крылья
распластав.
Какая красота и мощь
заложены в твоей природе.
Когда ты мимо скал
пройдёшь,
Потрогай
мускулы породы
И в слово вслушайся —
Урал…
Так,
поднимаясь к грозным тучам,
По буквам,
древним и могучим,
Вдруг
подставляешь грудь
ветрам!
Урал —
такая сила в нём,
В самом названии
Урала,
Что в слове
твёрдом и литом,
Упорно
слышен звук металла!
Урал —
здесь каждая скала,
Как изваяние
орла.
Урал —
красавца лося рёв,
Заводы дымные
в долинах,
Тень
среди утренних снегов
Молотобойца —
исполина.
Урал —
клинок предельно
острый,
Богатства в недрах
жёлтых руд.
Издревле
в дружбе здесь,
как сестры,
Труд и поэзия
живут.
Урал —
высокое дыханье,
Народа
образный язык,
Народа
древние преданья,
Поэзии
живой родник!
Урал —
на грозных высях
крепость.
Край
легендарных мастеров,
Неиссякаемый,
как эпос,
Торжественный,
как взлёт орлов!
С утра до позднего вечера Данилыч на ногах. Он топчется вокруг своих клиентов, посверкивая то ножницами, то бритвой. Небольшого роста, седенький, ему, должно быть, лет за пятьдесят. Но артистические пальцы его рук сохранили ещё живость и гибкость. Характерным движением кисти руки он поворачивает над щекой клиента распластанную бритву — это рука музыканта, держащего смычок. Без устали лязгают ножницы. Звуком своим этот сверкающий инструмент напоминает полёт шмеля: то приближаясь, то удаляясь, жужжит он свою нескончаемую песенку.
А разговоры! Гм! Только слушай. Неумолчно течёт здесь русская речь, под лязг ножниц и поскрипывание бритвы. По неугасшей старой привычке и сам Данилыч любит обронить острое словцо, чтобы развлечь посетителя. А уж тот не останется в долгу у Данилыча. Русский человек любит побеседовать на досуге.
С особенным интересом прислушивается подчас Данилыч к рассказам фронтовиков. На этот счёт у него есть свои особые причины. Когда разговор заходит о встречах родных с фронтовиками, возвращающимися домой, Данилыч глубоко вздыхает.
— А что вы думаете? Человек сорок лет топтался вокруг кресла и не имел другой жизни? О нет! Он имел её! Профессия, труд; радости личной жизни. Были у него жена и дочь. Жена погибла во время бомбёжки, а дочь…
О старческое сердце! Чутко оно к памяти о прошлом. Для будущего же мечты лелеет оно не о себе самом…
Испытующим взглядом посматривает Данилыч на своих клиентов. Вот, начальник пожарной охраны — высокий, сухой субъект, с густыми, огромными бровями (говорит, он не раз обжигал их на пожарах, но каждый раз они разрастались у него сильнее). И под этими густыми, дикими зарослями запрятались где-то серо-голубые, маленькие озерки. «Волосы на ушах опять отросли», — думает Данилыч, глядя на пожарника. Вот знаменитый штамповщик-новатор орденоносец Иван Герасимович Перелыгин, о чудесных делах которого вы читаете частые сообщения в газетах. По выходным дням он любит приходить сюда с сыном Олегом. Всегда чистый, опрятный, с разглаженными складочками на костюме, Олег говорит отцу «вы» и живым детским языком рассказывает школьные, наивные истории. Отец и сын стригутся «под бобрик».
Два заводских паренька рассмешили Данилыча. Неделю тому назад они сделали завивку и покрасили волосы перекисью водорода. Девушки засмеяли их. Теперь они пришли наголо обриться. Наконец, слепой инвалид Отечественной войны, вокруг которого сейчас сгрудились присутствующие.
Поправляя тёмные очки, слепой рассказывает фронтовые эпизоды.
— Три недели было затишье на нашем участке фронта. Мы стояли друг против друга на расстоянии 700—800 метров, в хороший, солнечный день было видно всё, как на ладони.
Немцы пытались агитировать наших ребят. Высунется другой из траншеи и начнёт в рупор орать: «Русс, сдавайся!» Ну, среди нас меткие стрелки были. Тут же отвечали немцу: «Сдаюсь, бери по частям!» и посылали свою частицу. У каждого бойца свой счёт вёлся на фрицев. Были такие, что по десятку фрицев в свою поминальную книжку записывали. Но, среди немцев тоже, должно быть, были любители «острых ощущений». На правом фланге неприятеля находился разбитый снарядом ветряк. От него осталось лишь основание одной, обращенной к нам, стены с выщипанными концами досок, похожими на пали, как ах рисуют на старых гравюрах, изображающих сибирские остроги. Сама же стена чёрная, просмолённая и всякое цветное пятно на фоне её, как на мишени. Немцы этого не учитывали, должно быть, вначале и время от времени появлялись на фоне этой стены. Что их влекло туда — мы не знали. Но мы терпеливо выжидали появления «цветного пятна» и редко, чтобы кто промахнулся. Только позднее мы узнали, что тянуло туда немцев: там был колодец.
В нашем подразделении было несколько девушек, но одна девушка как-то особенно выделялась среди них. Женское дело в армии, — что ни говорите, — трудное дело. А самое трудное в нём, я считаю, найти правильную линию поведения. Иная с самым честным умыслом старается показать из себя солдата и так насилует своё женское естество, что нашему брату-солдату неприятно даже смотреть на неё. Другая, наоборот, в боевом деле очень смелая, отважная, а в общежитии до того скромна и стеснительна, что не только себя, но и других собою стесняет. А на фронте, ведь, всяко бывает. У нашей ничего этого не было. При всех условиях фронтовой жизни она не теряла своей женственности, по-особому умела проявить её, где надо. Выходило это у неё до того свободно и естественно, что каждому становилось легко и приятно быть возле неё. При всём том она не только обладала всеми физическими данными отличного бойца, но двухлетняя учёба её в Киевском институте физической культуры дала ей превосходство в этом отношении над многими кадровыми бойцами. Она привлекла к себе всеобщую симпатию в нашей воинской части.