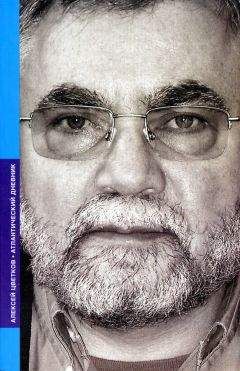На взгляд со стороны – просто волшебная сказка, пусть и занимающая три тома в полтысячи страниц каждый. Но такой взгляд ничего не проясняет, скорее вводит в заблуждение. Дело в том, что мир Толкина исключительно подробен и тонко выписан – он потратил долгие годы на сочинение своей трилогии, но на сочинение мира, где происходит ее действие, у автора ушла вся жизнь. С тех пор, с большим или меньшим успехом, этот прием монументальной живописи посредством колонковой кисти стал расхожим орудием в жанре фэнтези, но Толкин был первым и самым добросовестным. Изданы уже целые тома вспомогательных и сопутствующих материалов, большей частью совершенно нечитабельных, но благоговейно раскупаемых всемирной армией фанатиков.
Что же произошло полвека назад, почему эта книга разразилась бурей на литературном небосклоне и почему буря по сей день не стихает? Объяснений можно найти немало, и немало уже найдено. В частности, мир, в котором добро и зло абсолютно разделены и противопоставлены в бескомпромиссном конфликте, может послужить аллегорией минувшего века, хотя сам Толкин, по свидетельству Криса Муни, не слишком приветствовал такие толкования.
...
Толкин утверждал, что никогда не опускался в своих произведениях до аллегории, но он не отрицал возможной «применимости». «Властелина колец» можно читать как его реакцию на современность, на мир катастрофических войн, жуткого оружия и индустриализации, которая, как это виделось Толкину, уничтожала его любимую сельскую, «эдвардианскую» Англию… И если «Одно Кольцо» Толкина представляет собой технологию, человеческую гордыню по отношению к природе, то ответ на это – уничтожить его навсегда.
Тот факт, что энтузиасты Толкина – это в подавляющем числе молодежь, поколение за поколением, может показаться вполне естественным, но поневоле задумываешься над тем фактом, что молодежи вроде бы свойственно увлекаться прогрессом, в то время как Толкин представляет совершенно противоположный лагерь. Он был католик самого традиционного пошиба, человек, чей взгляд был пристально направлен в прошлое, человек, преисполненный исторической ностальгии. Впрочем, это скорее повод по-иному взглянуть на молодежь и на ее протесты. Движение хиппи, первое поколение фанатиков-толкинистов, было по сути чистой реакцией, испугом перед будущим, побегом из безоглядно прогрессивной капиталистической цивилизации в мифологическую идиллию прошлого. Саурон и его царство зла могут послужить символом нацизма, но с тем же успехом приложимы к американскому правительству и Пентагону с их непонятной и кровавой войной во Вьетнаме. А если вспомнить, что Толкин предпочитал любое дерево любому железу, легко сообразить, каким образом левый край политического спектра смыкается с правым в сегодняшнем движении «зеленых».
Толкин был продуктом эпохи Первой мировой войны, и, по его собственному признанию, к 1918 году большинство его близких друзей пали на этой войне. «Властелин колец» и выстроенная вокруг этой эпопеи альтернативная вселенная стали своеобразным ответом писателя миру, в котором добро и зло безнадежно перемешаны, а устои обрушены, – и одновременно пожизненным побегом из этого мира в другой, лучший, где свет и тень разделены резче и где разница между верностью и предательством абсолютна. Литература такого рода существовала и раньше, хотя ничего подобного Толкину по монументальности она до него не создавала. Сюда входит жанр детектива, восходящий к Эдгару По и Конан Дойлю, а также научная фантастика, которая от лица Герберта Уэллса сделала заявку на серьезность, но очень быстро скатилась в массовый рынок. И даже фэнтези, жанр, фактически изобретенный самим Толкином, имеет своих предшественников, прежде всего именно в английской литературе, как с сарказмом подмечал Эдмунд Уилсон, – можно вспомнить Уильяма Морриса, Джорджа Макдональда и Лорда Дансени, хотя сегодня их вспомнят немногие. Эти жанры, без всякого высокомерного осуждения, можно объединить под одним ярлыком: эскапизм, литература бегства, то есть такая, которую мы обычно читаем для расслабления мозгов, без лишних идей и режиссерских находок, с головокружительным сюжетом.
Что же касается жанра авторской сказки, то тут в первую очередь вспоминаешь Ханса Кристиана Андерсена, но параллелей с Толкином – почти никаких. Дело в том, что Андерсен – поразительно современный писатель, что-то вроде разведчика XX века, заброшенного в предыдущий. Его сказки исключительно многоплановы, преисполнены иронии и тонких закулисных ходов, глубины, выдающей себя за наивность, и полутонов, прикидывающихся черным и белым. Андерсен давно и справедливо причислен к современному канону. В Толкине нет ровным счетом ничего «современного», он стоит у этого канона костью в горле, камнем на дороге, который недоумевающие критики безуспешно пытаются объехать.
В чем же дело, почему современные критики никак не могут заключить мира с Толкином и почему они, с другой стороны, не в состоянии его игнорировать? Легче ответить на последний вопрос: писателю, чья читательская аудитория исчисляется десятками миллионов, укусы критики нипочем, и в свое время Диккенс именно таким способом проложил себе дорогу в классики. Впрочем, тогдашняя аудитория была сплоченнее, а критика – менее военизирована.
Но как отнестись всерьез к писателю, чей стиль старомодно напыщен и тяжеловесен, чьи произведения испещрены, с позволения сказать, стихами, которые даже у поклонников вызывают кислую ухмылку? И опять все то же извечное проклятие жанра: массовый рынок, эскапизм. Герои Толкина, в полном соответствии с черно-белым нравственным кодексом романа, делятся на чудовищных злодеев и кристальных поборников добра, потому что выбор слишком очевиден. В довершение всего, это, как правило, одни мужчины – во всем романе нет ни единого полноценного женского образа, только идеальные эпизодические.
С другой стороны, серьезность замысла и труда не может не вызывать уважения. Толкин был профессиональным и весьма авторитетным в своей области филологом-германистом, его придуманная цивилизация выстроена из филигранных и безупречно спаянных деталей кельтского, древнеанглийского и древнескандинавского быта, его эльфы и воины говорят на придуманных языках этих этносов, а злодеи орки – на особом гнусном наречии, которое, в пику всей нынешней политической корректности, приводит на память тюркские языки.
Труднее всего простить Толкину полное выпадение из канона модернизма, и именно это выпадение делает его классификацию и оценку неудобной, а то и вовсе невозможной. Правила современной серьезной литературы, не предписанные трибуналом, а выводимые из самой этой литературы, отодвигают сюжет на второй план, порой и вовсе его ликвидируют: в «Улиссе» Джойса восемьсот страниц уходит на описание заурядного дня заурядного персонажа, а «Поиски потерянного времени» Пруста – попытка воссоздать течение этого времени на тысячах страниц без театрального реквизита фабулы. У Толкина сюжет беззастенчиво стоит на первом плане. Кроме того, модернизм требует иронии и дистанции, писатель парит в некоем внеморальном пространстве, представляя жизнь героев как коллекцию бабочек на иголках. У Толкина нет ни намека на иронию: каждая страница – это приговор, а вся книга в целом – протокол Страшного суда.
Толкина можно назвать сокрушителем канона, но и это ничего не объясняет. Со времен первых авангардистов сокрушение канона стало общим местом модернизма, чуть ли не первым приемом, который автор берет на вооружение. В литературе этот трюк давно навяз в зубах, хотя им еще балуются так называемые «изобразительные» искусства, демонстрируя зрителю то разрубленную пополам корову, то экскременты слона. Толкин ведет себя не по правилам: он прорубает окно не в фиктивное будущее, а в реальное прошлое – не историческое, а сакральное, в его книгах есть модель святости, почти религия, откуда родом все искусство. Его абсолютные нравственные нормы управляют миром, а не выведены из него, и само искусство в этом мире – религиозный ритуал.
...
И вот, на шестнадцатый день пути, погребальный кортеж короля Теодена миновал зеленые поля Рогана и прибыл в Эдорас; и там их путь завершился. Золотой Чертог был увешан прекрасными коврами, и было там дано пиршество, величайшее со дня его возведения. Ибо на третий день воины Марки приготовили погребение Теодена, и положили его в каменной палате вместе с его оружием и многими другими прекрасными вещами, которыми он владел, и возвели над ним высокий курган, покрытый зеленым дерном и белым цветом незабвения. И теперь на восточной стороне Бэрроуфилда стало восемь курганов.
И тогда всадники королевского дома на белых конях ездили вокруг кургана и пели вместе песнь о Теодене, сыне Тенгела, которую сложил его скальд Глеовин, и больше он уже не слагал песен.