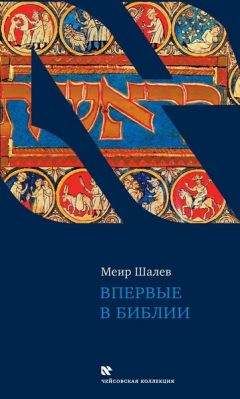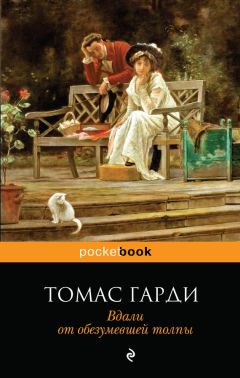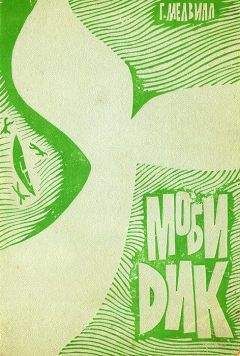Поскольку особой прилежностью я не отличался, а мои сила и рост тоже не были особенно впечатляющими, я понимал, что очки будут последним гвоздем в моем гробу, не говоря уже о позоре, который я навлеку на нашу семью. У меня не было сомнений, что, если я появлюсь в очках на носу мои дядья продадут меня скототорговцам, а мой дед соберет свой старый чемодан, объявит о поражении сионизма и вернется первым же пароходом в Одессу.
По всем этим причинам я прилагал большие усилия, чтобы скрыть свою близорукость, и среди прочего пристрастился к чтению. Реальный мир трудно приблизить к глазам, но литературные миры, те, что напечатаны на бумаге, — можно. Кстати, когда я в конечном счете вынужден был пойти к глазному врачу оказалось, что мне нужны очки с двумя с половиной диоптриями. Обычно близорукие дети начинают свою «очковую» карьеру с линз в половину или три четверти диоптрий. Это означает, что большинство детских лет я ходил по исчезающему миру и приветствовал не только людей, но и озадаченные кусты.
Кроме кустов, меня подозревал также мой учитель, тот самый Яков Местро. Он несколько раз вызывал меня на разговор с глазу на глаз и говорил, что, по его мнению, я не вижу, что написано на доске. Но похоже, что в моих страстных возражениях звучал такой страх, что он решил не слишком давить на меня.
Однако как-то раз он написал на доске задачи контрольной работы по арифметике, и я хорошо помню замечание, сопровождавшее низкую оценку, которую я получил: «Ответы частично правильны. Вопросы неправильны». Он велел мне остаться в классе после уроков, написал на доске несколько слов и цифр и доказал мне — белым по черному, дружелюбно и настойчиво, — что я близорук.
В тот же вечер он постучал в дверь нашего дома, вежливо поздоровался и вошел. Я почувствовал, что на меня падают стены. Вообще-то у меня было хорошее детство. Но два дня помнятся мне как очень тяжелые. Один — это день нашего переезда из Нагалаля в Иерусалим, а другой — тот самый день, черт бы его побрал, который я сейчас описываю.
Яков Местро был человек деликатный, невысокого роста. Кажется, он питал ко мне определенную симпатию, потому что и сам не соответствовал требованиям и нормам нашего мошава. Он не осушал болота и не воевал в Пальмахе[145] и вдобавок ко всему этому был сефард[146] и иммигрировал в Страну после Катастрофы — кажется, из Югославии. Нагалаль, одно из самых престижных воплощений сионистской идеи, был нетерпим к таким людям, как он. Даже тот факт, что он привез с собой в Страну группу маленьких сирот, которых собрал после Второй мировой войны и поистине спас от смерти, не помог улучшить его статус.
Он сразу перешел к делу, и моя мама, с ее гордостью и взглядами потомственного члена Нагалаля, тут же заявила ему, что он ошибается. Яков смутился, сжался на своем стуле, но настаивал на своем: мальчику нужны очки. Мама покраснела от гнева. В минуты раздражения она краснела по-особому: багрянец появлялся у основания шеи, поднимался и разгорался и заливал лицо и лоб. Она поднялась, вышла в соседнюю комнату и больше не выходили в знак возмущения и протеста.
Мой отец, напротив, с трудом сдерживал радость. Он был горожанин, с белой кожей, двумя левыми руками, с правыми политическими взглядами и, что самое важное, — сам очкарик. Тот факт, что ему удалось нанести ущерб безупречной генетике первого рабочего поселка вообще и социалистической семье моей мамы в частности, весьма позабавил его.
На следующий день мы поехали в Афулу, к глазному врачу. Переживание, связанное с подбором линз и внезапно открывшейся резкостью и ясностью окружающего мира, вовсе не доставило мне удовольствия. Спустя много лет я описал его в своей книге «Эсав». Так или иначе, в тот день, что я получил очки, я положил их в карман, пошел домой к Якову Местро, открыл маленькую калитку и вошел во двор, где он стоял, занимаясь своими цветами — львиным зевом, если память меня не обманывает.
Я сказал ему: «Яков, — в Нагалале учителей звали по имени, — Яков, через месяц кончится учебный год, а потом мы переезжаем в Иерусалим». И попросил, чтобы он разрешил мне не надевать очки до конца учебного года. Я пообещал ему, что в Иерусалим приеду уже в очках.
На следующий лень он вошел в класс и объявил, что решил всех нас пересадить, потому что мы слишком много болтаем. Так он замаскировал свою настоящую цель — пересадить меня в середину первого ряда, чтобы я был ближе к доске и мог читать написанное на ней.
Спустя месяц мы переехали в Иерусалим. Я сидел сзади в маленьком грузовичке, перевозившем наши вещи, и, когда поселок скрылся из виду (то есть через каких-нибудь двадцать метров), вынул из кармана новые очки, надел их на нос, и там они пребывают до нынешнего дня. В арифметике я слаб и сейчас, но хорошего и великодушного учителя могу различить и поныне и даже без очков.
Нахум Гутман в своей книге «Маленький город и жителей мало в нем» говорит: «Учителя всегда дают больше, чем у них есть. Это такая особая, секретная профессия». И вот как он описывает одного из учителей, которые были у него в детстве в Тель-Авиве:
Учитель Адлер, живший в соседнем дворе […] преподавал нам чтение, арифметику, рисование и гимнастику. Был он низенький и толстый. Я не говорю, что все учителя обязательно должны быть красивыми, в каждом человеке есть что-то смешное. И тем не менее в каждом учителе есть что-то удивительно красивое.
Утверждение, что в каждом учителе есть что-то удивительно красивое — это всеобъемлющее утверждение, может быть — даже слишком всеобъемлющее. Нередко попадаются учителя, отнюдь не удивляющие своей красотой. Справедливости ради добавлю, что нередко нам попадаются также и довольно отталкивающие ученики, но не они — предмет нашего сегодняшнего разговора, а именно учителя — красивые, хранимые в памяти, а также уродливые и забытые.
Все мы проводим большую часть своего детства в школе. Все мы учились у наших учителей, и страдали от них, и восторгались ими, и скучали с ними, и любили их, и ненавидели их. Неудивительно поэтому, что эти учителя позднее находили себе место также и в разных литературных произведениях. Писатели тоже были когда-то учениками и ходили в школу, а потом, как это принято у писателей, они копаются в своей памяти и находят там, среди прочего, также учителей и учительниц.
Тот же Нахум Гутман рассказывает «реальную историю»:
Несколько дней назад я встретил на тротуаре двух мальчиков, возвращавшихся из школы. Один из них, мой друг, сказал мне:
«Учительница поцеловала этого мальчика во время урока на глазах у всех нас».
Я спросил мальчика, как это произошло. Он опустил глаза и сказал: «Я ответил на вопрос на уроке Танаха».
Учительница сказала: «За такой ответ ученику полагается поцелуй».
Ученики сказали: «В классе?»
Учительница ответила: «А что? Я должна стесняться?» Подошла и поцеловала меня в лоб.
Я думаю, что сегодня такой поступок вызвал бы большую бурю. Но Нахум Гутман, который жил в другое время, говорит:
Эта учительница продолжает, несомненно, как и многие другие, династию тех учителей, о которых я рассказывал. Учитель вкладывает в обучение не только свои знания, свое время и свой ум.
Поцелуй, которым учительница награждает хорошего ученика, выходит за рамки урока и преподавания. Он напоминает поцелуй матери, которая гордится своим ребенком. И действительно, нередко в учителе, особенно в его литературном изображении, есть нечто от родителя. Наши мудрецы говорили: «Кто обучает сына своего друга Торе, Писание засчитывает, будто он его родил»[147]. И мы можем вспомнить также пророка Илию, который забрал своего ученика Елисея, сына Сафатова, из его дома и семьи, буквально изъял его из-под власти отца и матери и даже запретил ему попрощаться с ними перед уходом[148].
Эта тема очень ясно звучит в книге «Сердце», где автор описывает группу одиноких учителей. У этих учителей нет ни детей, ни семьи, и поэтому их отношение к ученикам, как к своим детям, выглядит почти естественным.
Синьор Пербони, новый учитель Энрико, открывает учебный год следующими словами:
Я одинок. Будьте моей семьей. В прошлом году у меня была еще мать, но она умерла, и я остался один. Во всем мире у меня только вы, мне некого больше любить и не о ком больше заботиться. Будьте моими сыновьями.
Ситуация совершенно ясна. Синьор Пербони, одинокий учитель, нуждается в своих учениках не меньше, чем они нуждаются в нем, и отношения, которые он хочет установить с ними, простираются за пределы преподавания в область семейных отношений:
Я вас люблю, любите и вы меня. Я не хочу никого наказывать. Докажите, что вы хорошие мальчики. Пусть школа будет для нас семьей, а вы — моим утешением и моей гордостью.