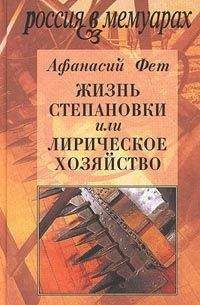К этому присоединялось еще одно обстоятельство. Крестьяне неоднократно выражали желание взять в аренду всю остающуюся за наделом господскую землю по 6 руб. серебром кругом — на 10 лет. Последнее обстоятельство было важно в двух отношениях. Во-первых, незначительное количество остающейся земли не могло выдерживать расходов нового вольнонаемного хозяйства и потому само просилось в аренду, а во-вторых, окруженные малоземельными однодворцами, крестьяне, несмотря на значительную высоту предлагаемой ими аренды, вынуждены были сильно дорожить наймом господской земли, за которую сторонние съемщики охотно дали бы по 7 руб. Нанимать господскую землю, которую зажиточные крестьяне (большею частью мастеровые) до сих пор обрабатывали обязательным трудом, они не могли иначе, как перейдя на оброк или окончательно на выкуп.
Под влиянием таких мыслей садился я в тарантас. Досадно было бы в самую рабочую пору прокатиться даром 200 верст и не только проиграть в настоящем очень важное дело, но, быть может, испортить его и в будущем. Напрасно вытаскивал я от скуки из экипажных сумок один журнал за другим: литература ни на минуту не могла увлечь моего внимания. Так доехал я на почтовых до поворота на проселок, где ожидала меня высланная на подставу тройка.
Повернув на проселок, я спросил кучера: «А что, Иван, коренной-то как будто нашибает на левую переднюю?» — «Да есть маленько. Он еще из дому, как я пошел на подставу, стал жаловаться. Должно быть, он его вчера заковал. Я уж на подставе вчера два гвоздя выдернул; авось пройдет: разогреется». — «Что у вас за страсть к тайнам и колдовству? Просто вернулся бы и сказал мне, что лошадь захромала, я велел бы ее расковать и взять другую. А теперь мы ее, пожалуй, и не догоним до места. Ведь ей, несчастной, еще бежать 60 верст!» — «Точно, я и сам думал доложить, да не догадался». Предсказание мое едва не сбылось вполне. На другой половине пути пришлось бедную лошадь перепрячь на пристяжку, и только постоянные удары кнутом могли заставить ее доскакать на трех ногах до места. Оставить ее было негде, и это обстоятельство замедлило наш переезд. Вечер был очаровательный. Перед закатом солнца весь степной воздух до того позолотился, что действительно можно было подумать, что Геба пролила в него кубок шампанского. По всем направлениям скрипели тяжелые возы со снопами, на прекрасных рослых лошадях. Женщины в шерстяных пунцовых юбках (типичный костюм однодворок) по большей части белокуры и более чем дурны собой. Зато мужчины, потомки древних татарских родов, как на подбор — красавцы. Высокие, стройные, с черными волосами и глазами и правильным очерком лиц. Эти люди представляют такой истинно прекрасный тип, какого мне не встречалось ни во Франции, ни в Италии. Солнце давно село, но светлые сумерки долго еще распростирались над степью, и тяжелые возы продолжали поскрипывать в чуткой тишине. В ясную летнюю ночь я не знаю более сладостной мелодии. Это не раздражительный писк немазаного колеса, а легкое покрехтывание телеги под драгоценным бременем жатвы. Так может по-крехтывать только дедушка, взнося на ступени крыльца уснувшую на руках его внучку. Мы тащились мучительно. Версты за две до цели поездки дорога подвела нас к опушке леса. Надо сказать, что всякого рода дичина окончательно исчезла в нашей стороне, и заяц, которых прежде, помню, бывало очень много, теперь редкое явление. При повороте к лесу и кучер и слуга в один голос закричали: «Заяц, заяц!» Действительно, шагах в 50 перед нами я увидал при ярком лунном свете зайца, сидящего на дороге и прислушивающегося к ленивому дребезжанию колокольчика. Он сидел передом к лесу, и не было сомнения, что он перебежит нам дорогу. Перебежит или не перебежит? Стыдно и нелепо верить в подобные вздоры, но
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.
Заяц дрогнул и, повернув в степь, пропал в серебристой дали. «Вон, вон он — другой, другой!» Другой точно так же, вопреки вероятности, не перебежал дороги. Но вот деревня и крутой берег реки с густым дубовым лесом на скате. Мельницы сверкают огнями, вода дружно шумит в рабочей канаве, а широкий пруд как-то лениво колышет ясный блеск луны. «Куда прикажете ехать: на барский двор или на мельницу?» — «Поворачивай к флигелю!» Этим громким именем называлась ветхая избушка, с худым полом, скривившимися стенами и перегородкой, связанная большими сенями с другой избой, носившей название кухни. Дверь в сени оказалась запертою на замок. Прибежал седой ключник с ключами. Переступая заветный порог, я почувствовал, что разорвал лицом мирные сети паука. Через несколько минут на покоробленном столе у окошка появилась чистая скатерть, две стеариновые свечи и огромный самовар с тарелкой под сильно подтекающим краном. Затем вошел прикащик Антип со стаканом превосходных сливок и мягкою, горячею крупитчатою булкой с мельницы. За перегородкой на кровати шумело сено, предназначавшееся заменить перину. «А что, Антип, далеко ли тут до посредника?» — «Нет-с, недалеко. Верст 7 до церкви, да там версты две. Ведь они же у нас и церковным старостой». — «На чем же я завтра к нему доеду? Лошадей мы в пень поставили». — «Помилуйте-с. Я сейчас схожу к Ивану Николаевичу, у них отменная тележка и лошадей сколько угодно». — «Так разбуди меня только пораньше и приготовь лошадь». — «Слушаю-с». — «А достань-ка мне из баула зеленую книжку да персидского порошка. Убери самовар, дай мне раздеться и ступай спать». В прохладной, необитаемой комнате за перегородкой не оказалось ни одной мухи, этого личного врага человека. Свежее сено приятно благоухало, а коростель, пробравшись под самое окно спальни, однообразно драл горло в картофельном огороде и под исполинскими лопухами.
Часов в шесть утра я услыхал за перегородкой легкий звон стакана и чайной ложечки, а затем и кипение самовара. Не успел я усесться за утренний кофе, как знакомый читателю Иван Николаевич вошел в комнату в черном люстриновом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и поздравил меня с приездом.
— Садитесь, Иван Николаевич! Дай еще стакан. Вам чаю?
— Покорнейше благодарю. Выпью. Да вам некогда; пожалуй, не застанете Семена Семеновича. Они у нас очень рано встают.
— Ну как дела ваши с Бочкиным?
— Да теперь дела его некрасивы. Как он там ни лазил, ни плакал, а Сенат не дает ему топить нас до разбирательства дела. Теперь вся сила в окончательном решении Сената. Ах, какой человек! Это, помилуйте, такой актер-с — куда Садовскому. Ему впору трагедии играть-с. Седая борода, благообразный из себя и сейчас слезы в два ручья. Несчастного, обиженного разыграет мастерски. А несчастье все в том, что не дают забрать чужого.
— Удивляюсь я одному, Иван Николаевич, как такой проходимец решился на такое рискованное дело. Ведь ему перестройка мельницы стала, пожалуй, тысяч двадцать пять?
— Пожалуй. Понадеялся, дескать, деньгами все поверну. Да ведь и прав был. Ведь мы, как всей округе известно, три месяца прошлой зимой просидели затопленные по валы. Кабы не Сенат, разорил бы вконец. И так 8000 убытку понесли; а с кого их теперь искать, одному Богу известно.
— Ну да и ему будет не мед, если дело кончится в вашу пользу?
— Какой тут мед-с, человек бил на отчаянность. Дескать, авось моя вывезет! А тут как совсем напротив, так одно полагаю, его электричество ударит.
В это время за окном послышался топот копыт.
— Я и забыл, Иван Николаевич, поблагодарить вас за лошадь и кабриолетку.
— Помилуйте, с нашим удовольствием, во всякое время. Староста нарядил с вами своего парнишку и лошадь свою запряг. Уж учуяли, зачем вы пожаловали; теперь по всей деревне толки промеж себя идут. Главное сильно боятся нас, чтобы мы не вошли в это дело, — не сняли вашей земли дороже ихнего. Помилуйте, можем ли мы из-за такой малости, из-за каких-либо 100 р. в год, хлопотать. Нам Бог с ними, коли им такое счастие выходит. А мы вот вас о своем-то деле, так точно что будем покорнейше просить. Вот чтоб от водочной-то продажи защитить мельницу. Истинно докладываю, что уж нам лучше от дела отказаться. Тут, доложу вам, такая пойдет эманципация, на чистоту-с.
— Да я зачем же приехал? Что же вы меня упрашиваете о деле, которое меня еще более интересует, чем вас?
— Да я, признаться, за тем и поторопился захватить вас. Сделайте милость, похлопочите. Желаю вам доброго пути и счастливого окончания.
Мягкое и вместе освежительное дыхание яркого утра обдало меня, когда я переступил порог, чтоб усесться в кабриолетке рядом с ожидавшим меня в новой черной свитке парнишкой старосты. Какое утро! какой дубовый лес, какой пруд и убегающие речные повороты и эта мельница, потонувшая в зелени приводных ив! Но некогда, некогда! Пора, пора! И я круто заворотил сытую вороную лошадь на дорогу, ведущую к броду. «Вы ее, батюшка, кнутом-то хорошенько проберите, а то она ленива!» — кричал мне вслед стоявший у крыльца старик староста. Выбравшись за мельницей на большую дорогу, я передал мальчику вожжи и, закурив сигару, предался более или менее практическим мыслям. Кроме главных интересов дела меня невольно и сильно занимала предстоящая встреча с посредником. До сих пор я видал только знакомых мне людей, взявших на себя должность посредника и не разрешавших притом на моих глазах никаких важных вопросов. Теперь мне предстояло увидать совершенно незнакомого мне посредника и увидать его в этом качестве на деле. Много доводилось мне читать и слышать похвал и порицаний этому званию, но слышать чужие суждения и судить по собственному опыту — две вещи разные.