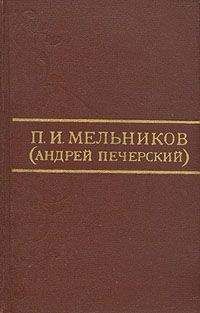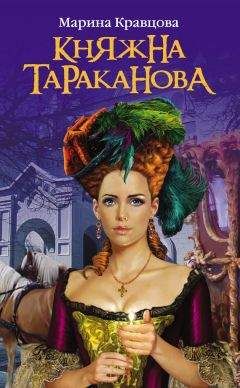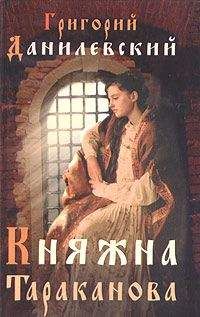Во второй половине пятидесятых и в шестидесятых годах в связи с некоторым ослаблением цензурного гнета в печати появился целый ряд материалов, в николаевские времена наглухо закрытых для публики. Стали обнародоваться некоторые документы и воспоминания о политических событиях XVIII и первой половины XIX столетия. Публикации подобного рода в то время воспринимались как «разоблачительные» хотя бы уже потому, что раньше они были невозможны. Этим в значительной степени предопределялся и читательский интерес к ним. Само собой разумеется, что любая из таких публикаций отражала политические позиции ее автора. Революционные демократы в каждом обращении к недавнему прошлому стремились прежде всего разоблачить многочисленные дворянские легенды: о «просвещенной» Екатерине II, о «либеральности» Александра I и т. п., нанося, таким образом, удары по монархическим иллюзиям, настойчиво распространявшимся в те годы. Реакционная журналистика старалась использовать интерес читателей к политической жизни недавнего прошлого для того, чтобы отвлечь их от современных вопросов «разоблачением» незначительных «пикантных» тайн придворной жизни. Решив напечатать мельниковскую "Княжну Тараканову", издатель "Русского вестника" реакционер Катков преследовал по крайней мере две цели: во-первых, легендарная история самозванки должна была привлечь внимание читателей как очередная журнальная сенсация, а во-вторых, он рассчитывал, что очерк даст новый материал для антипольской кампании, которая на протяжении ряда лет велась на страницах катковских органов — "Русского вестника" и "Московских ведомостей". Однако эта вторая — для Каткова, конечно, главная — цель не была достигнута. Дело в том, что Мельников имел свои, отличные от катковских цели.
На первый взгляд может показаться, что Мельников в "Княжне Таракановой" стремился главным образом к тому, чтобы на основании документов и достоверных воспоминаний выяснить действительную судьбу таинственной авантюристки, отделить легенду от реальных фактов. И на самом деле, в этом отношении ему удалось сделать немало. На основании многочисленных источников он с большой обстоятельностью описал многие похождения авантюристки, сняв с них покров загадочности; особенно точно и впечатляюще изложена в очерке вся история «изловления» самозванки. Мельников проанализировал доступные в его время документы, отражавшие ход следствия по делу "принцессы Владимирской" и характер ее содержания в крепости. В этом смысле "Княжна Тараканова" и до сих пор не утратила своего значения. Достаточно сказать, что такой авторитетный криминалист, как М. Н. Гернет, ссылался на очерк Мельникова как на первоисточник (см. М. Н. Гернет, История царской тюрьмы, изд. 3, т. I, M. 1960, стр. 195 — 196). Нельзя не отметить, что Мельников убедительно и ярко характеризовал личность своеобразно одаренной женщины, бездумно, с каким-то едва ли не патологическим легкомыслием бросавшейся от одного приключения к другому. Однако как бы ни были важны эти качества очерка, необходимо иметь в виду, что для самого Мельникова они имели второстепенное значение.
Читая очерк, нетрудно заметить в нем определенный публицистический подтекст. Он, этот подтекст, и составляет сердцевину содержания "Княжны Таракановой". Мельников понимал, что все приключения и «взлеты» авантюристки были в конечном счете обусловлены не обаянием ее необычайной красоты и уж, разумеется, не силой ее ума. В очерке вполне определенно говорится о том, что эта женщина была втянута в большую политическую игру того времени. Борьба политических интересов и нравы вершителей политических судеб Европы второй половины XVIII века — вот что было в центре внимания Мельникова. Причем о том и другом он писал пером публициста, смотрящего на политические события прошлого с позиций участника современной ему политической борьбы. Вполне закономерно, что в этом очерке сказались и сильные и слабые стороны мировоззрения Мельникова.
Мельников не сумел вскрыть всей сложности политических интриг, в которые была вовлечена "принцесса Владимирская". Он недооценивал того факта, что политические претензии самозванки тайно поддерживали силы более мощные, чем польские магнаты во главе с К. Радзивиллом, что в ее успехе были заинтересованы все те, кто с опасением следил за успехами международной политики правительства Екатерины II. Не случайно сама легенда о "принцессе Владимирской" впервые зазвучала в Париже. Мельников все политические похождения "княжны Таракановой" склонен был объяснять только "польской интригой". И эта односторонность была предопределена реакционностью политической позиции, которую он занимал в 60-х годах. К польскому освободительному восстанию 1863 — 1864 годов он, как и подавляющее большинство либералов и консерваторов того времени, отнесся резко отрицательно. По поручению министра внутренних дел он написал тогда «народную» брошюрку "О русской правде и польской кривде", брошюрку, полную шовинистических обвинений, направленных против всего польского народа. Именно после появления этого опуса революционные демократы порвали с Мельниковым всякие отношения. В "Княжне Таракановой" Мельников как бы «уточняет» свою позицию в польском вопросе. Здесь он пытался внушить читателю мысль, что антирусской деятельностью всегда была занята лишь небольшая часть польского дворянства — магнаты вроде Браницких и Радзивиллов и пресмыкающиеся вокруг них шляхтичи. В отличие от Каткова Мельников теперь не допускал никаких выпадов против польского народа в целом. Но это, конечно, не означает, что к 1867 году Мельников сумел полностью освободиться от былых предубеждений.
Из очерка видно, что подлинные вдохновители "принцессы Владимирской" пытались уверить публику, будто бы замыслы этой самозванки связаны с делами Емельяна Пугачева. Мельников, конечно, понимал, насколько вздорна эта легенда. Однако косвенную связь между "принцессой Владимирской" и Пугачевым он считал реальной. И это на том основании, что он под воздействием официальных источников о восстании под руководством Пугачева тоже видел влияние "польской интриги". Понять пугачевское восстание как восстание народное он не мог, хотя и признавал недостаточность своих познаний в этом вопросе.
Необходимо, однако, отметить, что политическая сторона истерии "принцессы Владимирской" в очерке Мельникова освещается все-таки лишь попутно. Основное внимание Мельников сосредоточил на характеристике нравов тех, кто играл главную роль в этой истории. И тут сказалась одна из самых сильных сторон его мировоззрения — ненависть к произволу, царившему в самых верхах самодержавного строя, к тому произволу, который был неразлучен с развратом, низкопоклонством и вероломством. По цензурным условиям того времени Мельников не мог дать полную волю своему возмущению. Но когда он рассказывает, например, о нравах при дворе Елизаветы Петровны, то за спокойным по внешности повествованием явно чувствуется отрицательное отношение и к самой "дщери Петра" и к ее окружению. В 60-е годы дворянские идеологи всячески старались оживить легенду о «просвещенной» Екатерине и о "екатерининских орлах". Мельников в своем очерке создал саркастический портрет одного из «героев» екатерининского царствования — Алексея Орлова, который из желания вернуть благосклонность «матушки-государыни» готов был совершить любую подлость.[78]
Дом этот принадлежит кн. Трубецкому и известен в Москве под названием "Комода".
Во второй книжке "Чтений Общества Истории и Древностей" 1866 года напечатана статья г. Семевского "Заметка об одной могиле в посаде Пучеже". В ней сказано, что эта Варвара Мироновна была не кто иная, как дочь императрицы Елизаветы. На месте действительно ходит такой слух в народе, но Варвара Мироновна ничего общего с княжной Таракановой не имеет.
Для мужчин в XVIII столетии устроены были особые казематы в монастырях Соловецком и Спасо-Евфимьевом Суздальском. Они ссылались туда под названьем «умалишенных». Теперь в казематах обоих этих монастырей содержатся преимущественно духовные лица, а также разные сектаторы, признанные вредными.
"Дневник камер-юнкера Берхгольца", 1, 54.
До 1600 года дворян Шубиных не было. В 1699 двое Шубиных владели поместьями.
Манштейн.
(второй выпуск. Спб. 1847, т. III, стр. 550)
Вступив на престол, Елизавета Петровна вспомнила о своем любимце, сосланном за нее в дальнюю Камчатку. С великим трудом отыскали его не ранее 1742 года в одном камчадальском селении. Посланный объездил всю Камчатку, спрашивал везде, нет ли где Шубина, но не мог ничего разузнать. Когда его ссылали, то не объявили его имени, а самому ему запрещено было называть себя кому бы то ни было под страхом смертной казни. В одной юрте посланный отыскивать ссыльного спрашивал нескольких бывших тут арестантов, не слыхали ли они чего-нибудь про Шубина; никто не дал положительного ответа. Потом, разговорясь с арестантами, посланный упомянул имя императрицы Елизаветы Петровны. "Разве Елизавета царствует?" — спросил тогда один из ссыльных. "Да, вот уж другой год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол", — отвечал посланный. "Но чем вы удостоверите в истине?" — спросил ссыльный. Офицер показал ему подорожную и другие бумаги, в которых было написано имя императрицы Елизаветы. "В таком случае Шубин, которого вы отыскиваете, перед вами", — отвечал арестант. Его привезли в Петербург, где 2 марта 1743 года он был произведен "за невинное претерпение" прямо в генерал-майоры и лейб-гвардии Семеновского полка в майоры и получил Александровскую ленту. Императрица пожаловала ему богатые вотчины, в том числе село Работки на Волге, что в нынешнем Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Шубин недолго оставался при дворе. Камчатская ссылка совершенно расстроила его здоровье, он предался набожности, дошедшей до аскетизма, и в 1744 году, уже в чине генерал-поручика, когда особенно сильно было влияние на императрицу Разумовского, просил увольнения от службы. Получив отставку, Шубин поселился в пожалованных ему Работках, где и умер. На прощание императрица Елизавета подарила ему драгоценный образ спасителя и часть ризы господней. То и другое доселе сохраняется в церкви села Работок. В этом селе передается из поколения в поколение предание об отношениях императрицы Елизаветы Петровны к бывшему тамошнему помещику.