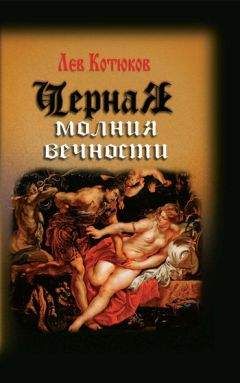И он вспомнил свои ранние стихи, сочиненные в семинарские годы. Тогда он писал на грузинском. Но ныне не только не писал на грузинском, но и давно уже разучился мыслить грузинскими словами. Его сознание жило в русской речи – и в безмолвии общалось с Молчанием по-русски. И к Богу он обращался на русском языке.
Стихи были замечены великим Ильёй Чавчавадзе и – невиданная честь для юного поэта! – публиковались в школьных хрестоматиях вместе с мировыми классиками. Большое литературное будущее предрекал ему великий грузинский просветитель. Но оно оказалось таким большим, что поэзия осталась за его пределами.
„Где-то теперь этот „юноша бледный со взором горящим“, с тетрадкой стихов в потной от волнения руке, в одночасье ставший хрестоматийным поэтом?! Он ничего уже больше не напишет. Ничего! А жаль!..“ – и Сталин с грустью прочитал сам себе свое старое стихотворение, которое между делом перевел на русский язык, но перевод бумаге не доверил и хранил в памяти. Стихи назывались „Утро“:
Озябший розовый бутон
К фиалке голубой приник.
И тотчас, ветром пробужден,
Очнулся ландыш – и поник.
И жаворонок в синь летел,
Звенел, взмывая к облакам.
А соловей рассветный пел
О неземной любви цветам.
„Конечно, не Бог весть что, но Фет, пожалуй, одобрил бы…“ – усмехнулся он про себя – и вдруг с горечью пожалел, что никогда не читал своих стихов Наде. Лермонтова читал, Тютчева читал, а свои не читал, а она ведь очень просила. А он в ответ: „О, как убийственно мы любим!..“. Убийственно!.. Стеснялся, дурак, вот и достеснялся – один теперь!..»
Глава пятая
…И опять возвернулся, влез в сознание, как угольный таракан в хлебницу, проклятый, черноквадратный сон. И без всякой связи какой-то незлобный, безликий человек по фамилии Шкроб припомнился. «Шкроб? Шкроб? Шкроб?..»
И память услужливо, слишком услужливо доложила: «…С Красноярской пересылки сокамерник. По какой-то мелкой бытовой уголовщине проходил злосчастный Шкроб. Сочувствующим оказался. Исправно разживался заваркой у матерых громил, горевал за него, сокрушался, что морозы в Туруханске за шестьдесят бывают. А он ему про Вену байки травил за жизнь европейскую, про баб цветастых, про бюргеров оброгаченных. Небось давно в живых нет этого Шкроба? Царствие тебе Небесное, человек незлобивый! И прости, ежели мое царствие земное тебя обидело! Оно мне самому в обиду, только я на него права не имею обижаться. Смерть одного человека – трагедия, а смерть миллионов – это, увы, всего лишь статистика. Государственный страх есть жизненная необходимость. Человек должен бояться государства сильней собственной смерти! И многие именно так боятся!.. И, быть может, в этом залог бессмертия… „…Смерть – где жало твое?! Ад – где твоя победа?!“ Свобода есть отсутствие страха человека перед человеком. Но эта свобода невозможна без страха государственного. И Россия, и Австро-Венгрия сего страха не ведали – оттого и погибли. Он сам был свидетелем их предгибельности зимой 13-го года. Нутром чуял: разверзаются в сердце Европы глуби сатанинские. Но мог ли он думать, что дитя этих ужасных бездн мрака стоит перед ним в обличье уличного торговца в нелепом длиннополом пальто и смешной жокейской кепке. Увы, не приходило в голову! Не приходило!..».
Сталин пригладил непричесанные, вялые волосы, задержал руку, как бы удостоверяясь, что голова еще цела и пока не обратилась в черный квадрат от горьких, безнадежных дум и стылых, нежданных воспоминаний.
«Когда он впервые узнал его? Ну да, в двадцать третьем, через десять лет после нечаянной встречи. В „Правде“, что ли, была фотография с процесса над германскими нацистами. Судили тогда Гитлера с компанией за неудачный путч, так называемый пивной. Так засудили, что он с горя в тюрьме „Майн кампф“ насочинял, где черным по белому открыто изложил свой план покорения мира, и в первую очередь славянства. Эх, в Туруханск бы его, скотину, а не в теплую камеру!.. Может, и передумал бы Россию покорять. Он тогда с этой книжонкой на всякий случай ознакомился, специально приказал сделать точный перевод. Но хоть и всерьез не принял супротивника поначалу, но в уме держал. А уже в начале тридцатых, да нет, еще раньше, когда тот факельно шел к абсолютной власти, не на шутку встревожился, ибо окончательно понял, в чей огород уготавливает бездна камни смертоносные. Помнится, Надя за завтраком возмутилась чему-то в свежей газете, чересчур она газетками стала зачитываться после поступления в Промакадемию. И ему газетку протянула с гневом: „Посмотри, совсем фашисты распоясались!“ Он газетку взял, а там этот с усиками в упор зырится, нагло зырится, как победитель грядущий. И что-то там было о преследовании коммунистов в Германии. Ну на эти преследования ему было начхать, он бы сам всех этих оглашенных коминтерновцев с превеликим удовольствием искоренил бы. Что, кстати, потом и сделал, но, к сожалению, не до конца… А тогда чужой взгляд вывел его из себя, как будто тот, на фотографии, знал, что достанет его за завтраком, на весь день аппетит испортит. Будто специально для этого позировал. Он-то наверняка раньше него понял: кто не купил у него открытки в Вене. Вот чертов город! Слава Богу, никогда уже не бывать там! Слава Богу!.. А Надя с женской милой ненавистью ткнула пальцем в фотографию:
– До чего же лицо противное! Маньяк! Фу!..
А он газетку аккуратно сложил и брякнул:
– А я его знаю! Виделся!
И чего тогда его вдруг прорвало – необъяснимо. Словно бес под бок толкнул – и за него вякнул. Сам себя позабыл на мгновение. А Надя с ужасом в глаза посмотрела и онемела на миг, бедняжка. Он натужно заулыбался в ответ, к себе привлек и выдавил фальшиво:
– Шучу, Надюш, шучу…
Но она, как никто иной, сердцем чуяла его ложь и правду, но допытываться не стала – знала его вспыльчивость, страдала незаслуженно от нее – и притворилась, что поверила нелепой шутке. Она о чем-то другом заговорила, что-то про детей Микояна, хорошие, мол дети, – и чашку с чаем пролила. Но он виду не подал, что она все поняла. И она видела, что ему ведомо ее неверие. Но оба слукавили друг перед другом, а вскорости не стало Нади – и все вразнотык пошло – и жизни личной не стало. Эта проклятая Жемчужина!.. О чем она с Надей говорила?.. Она ведь последняя видела Надю живой… Все врет, гадина!.. Гадюка подколодная!.. Пригрел змеюку чертов Молотов под своей железной задницей! Пора с ней разобраться – обнаглела до предела. Но правды от нее не добьешься, истинная дщерь Сиона и Лжи. Никому нельзя верить! Никому!.. Разве что дуракам! Все ищут дураков. Но и дураки не теряют даром времени: тоже ищут – и находят… Так что неизвестно: кто кого ищет…
Этот плясун Хрущев! С Надей в Промакадемии учился, между прочим. Эк он свою преданную глупость выпячивает! Хитрюга крестьянский… Только зазевайся – враз вилы в спину всадит. С последнего покойника дырявые сапоги стащит да еще обгадит посмертно! Пусть изображает простака, образина облыселая… Пусть! Не время еще… А этот, из Вены, неспроста тогда дрызнул… Видать, достали его тайные людишки, крепко достали… Как и меня в семинарии. Но зря он понадеялся, что ускользнул. Они его все равно охомутали, он и сам об этом не ведал. Четко они его вели, очень четко! А он-то думал, что сам ведет: тайные кружки запретил, астрологов в лагеря отправил, экспедицию в Тибет организовал, чашу Грааля найти пытался. А они только посмеивались: чем дитя не тешится. Смеялись – и вели, как слепца. И эту любовницу его или жену убрали. Гелей, кажется, звали. Говорили, что застрелилась. И надо же, за год до смерти Нади. Он, по слухам, долго был безутешен, но потом все-таки оттаял, Евой обзавелся. Тоже мне – Адам из рейхсканцелярии! А я вот однолюбом оказался. Сталин – однолюб… Грустно… Эх, Надя, Надя, зачем ты меня полюбила?! Неужели и там, за гробом, еще любишь? Нет мне прощения! Нет! А дети?! А что дети?.. Был когда-то отцом, а теперь всего лишь Сталин. Какая радость с них – забулдыги, а не дети… Яков-то погиб… Царствие ему Небесное! Отмучился за меня, в раю теперь, душа безвинная… А эти?.. Васька не по дням, по часам спивается. Светке евреев подсовывают. В Каплера какого-то втюрилась. А чего его Люсей кличут: уж не мужеложец ли?.. То Зиночка, то Люся, черт бы вас подрал! А ведь они и меня ведут! – вдруг ударила мысль и спокойно проявилась в сознании. Ведут, нет сомнений! Но я не туда иду, а может быть, им и надо, чтобы не туда… Как это у них сказано: „Чем хуже, тем лучше!“ М-да!.. Любил Бухарчик эти слова, любил. Ведь узнал открыточника!..»
И въявь представилось:
– Помнишь, Коба, этого из Вены?
– Нет, не помню! – глухо отрезал Сталин.
– Но!.. – встретив жесткий, неумолимый взгляд, Бухарин запнулся и отвел лихорадочные глаза.
Уж минула пора, когда этот болтливый, сластолюбивый человечишка с позорной кличкой «Зиночка» мог распоряжаться чужими жизнями и «путем массовых расстрелов вырабатывать новую человеческую формацию». Так он изволил выразиться в одной своей гнусной статейке. Но его время и время иных подельников было беспощадно повержено – и восторженному любителю расстрельного воспитания приспела пора распорядиться собственной смертью, а не чужими, невинными жизнями. Но он оказался не способен даже на это. Огненный мрак последнего одиночества с презрением отринул в низшую, смрадную бездну его непотребную, изолгавшуюся сущность – и черный квадрат антибытия запечатал ее на веки вечные.