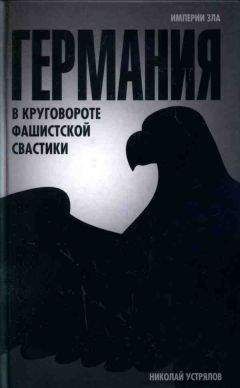проводить не через формальную процедуру «всенародного» обсуждения и утверждения, а через диктатуру Верховного Управления. Он доказывал, что конституционные начала, до времени оставаясь тайной инициативной группы, не должны быть обнародованы, во избежание сутолоки и никчемных словопрений. Он считал, что правление Общества должно сперва устранить членов императорской фамилии и объявить себя через приведенные к покорности Синод и Сенат Верховным Правительством, облеченным неограниченной властью, и раздать важнейшие должности своим сторонникам.
Залог успеха Пестель усматривал в принципе диктатуры, а не в формах формального народоправства. Народоправство придет потом, утвердится посредством диктаториальной власти Верховного Управления. «Временное Верховное Управление обязано новый государственный порядок, Русскою Правдой определенный, постепенными мероприятиями ввести и устроить, а народ обязан сему введению не только не противиться, но, напротив того, Временному Верховному Правлению усердно всеми силами содействовать и неуместным нетерпением не вредить преуспеванию народного возрождения и государственного преобразования». Пестель надеялся, что Верховному Управлению удалось бы осуществить необходимые реформы приблизительно в десятилетний промежуток времени. Но трудно сомневаться, что произойди тут «ошибка в темпе» – он все равно продолжал бы твердо стоять на основной своей позиции…
Если по своему темпераменту, по психологическому складу своему, Муравьев был «меньшевиком» декабризма, то Пестель – его несомненный и ярко выраженный большевик.
Его резкие суждения, его прямолинейная суровость в средствах, его авторитарные концепции и диктаторские повадки – зачастую смущали его вольных и невольных сотоварищей. Несмотря на всю силу его влияния в Обществе, многие члены чуждались его, почти никто его не любил. И, уж конечно, никто как следует не понимал его.
«Полковник Пестель, – показывает Басаргин, – имел тогда сильное влияние в обществе нашем, хотя и в то время мы говорили, что он мыслит слишком вольно. Весьма часто в некоторых, даже ничтожных разговорах нам казалось, что Пестель рассуждает несправедливо, но, не желая с ним спорить, мы оставляли его при его мнении, а говорили без него о сем между собою». Он покорял математической логикой мысли, но вместе с тем и устрашал ею.
Показания Трубецкого Следственной Комиссии – сплошной оговор Пестеля, обвинительный акт против него, раздраженная брань по его адресу. «Я не рожден убийцею, – восклицает неудачливый, злосчастный «диктатор», – я желал отойти, видя себя между людьми, готовыми на убийство». Говоря о планах Пестеля, он не обинуясь, характеризует их злобно-ироническим указанием:
– Сам он садился в Директорию…
Полковник Комаров определяет Пестеля как «самого ревностного члена Общества и самого опасного». Он утверждает, что оттолкнулся от заговорщиков главным образом из-за Пестеля, узнав его короче, «познавши его безнравственность, его порочность души, сухой, хитрой и способной на все гнусное»…
Н.Муравьев, со своей стороны, морально содрогнулся, выслушав изложенный Пестелем план переворота. «Весь план, – признается он – показался мне столь несбыточным и невозможным, сколь варварским и противным нравственности».
Рылеев также недолюбливал Пестеля, «хитрого честолюбца», не доверял ему и хотел даже установить за ним наблюдение.
Его обвиняли в честолюбии, жестокости, вероломстве. И никто, никто не понимал, что в его голове гнездилась целостная, глубоко продуманная, принципиально выдержанная система, тактика большого полета. Конечно, он лучше своих соратников учитывал логику политического действия, глубже проникал и в природу русской народной стихии. Он чувствовал русский народ куда лучше Рылеевых и Муравьевых. Его организационный план был проникнут чутьем реальности и полон действенности: не его вина, что его окружала социальная и политическая пустота. Быть может, его вина лишь в том, что он не хотел постичь величия исторического Петербурга и по своему осмыслить парадокс Николая, брошенный им Завалишину:
– Зачем вам революция? Я сам вам революция…
Но для этого Пестелю нужно было перестать быть Пестелем… Да и Николай должен был бы, пожалуй, перестать быть Николаем…
Склонись волею чуда (исторически, конечно, это было весьма маловероятно) победа на долю романтиков 14 декабря, – власть сначала очутилась бы в изящных благородных руках русского жирондизма. Но, вероятно, Трубецкие и Рылеевы не успели бы еще провозгласить всех полагающихся вольностей, не успели бы собрать столь дорогого их сердцам «собора», как возлюбленный ими народ обернулся бы к ним своим совсем не поэтическим, но очень реальным и очень национальным ликом. И пробил бы тогда час Пестеля…
Ну, а что же было бы дальше? На этот счет возможны лишь гадания и намеки…
Один из них налицо. Рылеев передает любопытный свой разговор с Пестелем: «Зашла речь о Наполеоне. Пестель воскликнул:
– Вот истинно великий человек, по моему мнению; уже если иметь над собою деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию, сколько создал новых фортун! Он отличал незнатность и дарования!»
Рылеев возмутился до глубины души. Ему грезились лавры Вашингтона, он любил воспевать Брута, – а здесь его ближайший соратник вдруг взывает к жизни тень нового Цезаря…
Он не мог и не хотел понять, что эта фраза, вырвавшаяся у Пестеля, вскрывает глубокие родники его политического миросозерцания, его работы, его смертной борьбы. В якобизме эвентуально живет бонапартизм. Бонапартизм выступает исторически прежде всего как самокритика якобинизма. Исторически и логически они взаимно связны. И тот, и другой умеют одинаково «отличать незнатность и дарования», выдвигать «новые фортуны». И тот, и другой государственны. И тот, и другой выходят из народа, чтобы вести народ за собой. И тот, и другой народны, но не «демократичны». Переход от первого ко второму есть своеобразная реализация первого, консолидация его жизнеспособных элементов. Франция недаром была свидетельницей, как «вчерашние Бруты становились слугами пришедшего Цезаря». Тут, следовательно, меньше всего – погрешности или скачки индивидуальной мысли Пестеля. Тут ее характерная направленность, ее отважнейшее самообнаружение. Тут она – значок какой-то большой исторической логики, революционной диалектики…
«Пока человек будет человеком, – писал Карлейль, – Кромвели или Наполеоны будут неизбежным завершением санкюлотизма» («Герои и героическое в истории»).
И когда теперь задумываешься о декабризме и хочешь тщательнее понять его смысл, его судьбу, его душу, – неизменно в сознании воскресает образ его выдающегося идеолога и первейшей жертвы его – Пестеля.
ГЕРЦЕН В СВЕТЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ [104]
Недавно мне довелось перечитать Герцена, – и с острой, свежей силой запечатлелась в сознании мысль о глубочайшей «органичности» русской революции, ее коренной связи с духовным ядром русской общественной мысли. Прямо поражаешься, до чего современны основные мотивы публицистики «Колокола», размышлений «Дневника», заветов «С того берега»…
Вне всякой зависимости от оценки свершающегося кризиса принуждаешься признать, что он национален в подлинном и полном смысле этого слова. Его пророчески предсказывали наши лучшие люди, то ужасаясь его ликом, как Достоевский, то зажигаясь его пафосом, как автор «Былого и дум»…
Должно быть, в самом деле заложен