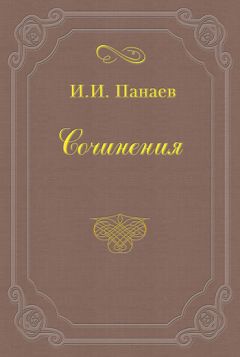ГЛАВА IV
Клюшников, Кетчер и Бакунин и вообще их московский кружок. …
Грановский и московский кружок.
Теперь, оставляя на время хронологический порядок, которого я насколько мог придерживался в моих «Воспоминаниях», я хочу остановиться на Грановском и по этому поводу поговорить вообще о московском кружке. Я не имею претензии представить полный образ этого человека, рассмотреть со всех сторон эту замечательную личность — указывать на значение Грановского как профессора, разбирать его исторические труды и т. д. Я очень хорошо знаю, что это мне не по силам. Я просто и откровенно выскажу о нем то, что знаю.
Если в этом слабом очерке найдется хоть одна незамеченная и новая черта, которая пригодится для его будущей биографии, — я буду доволен и этим…
Когда я возвратился из Казани в Москву, Грановский незадолго до меня приехал в Москву из-за границы, где он пробыл три года (с 1836 — 1839). Он тотчас же сошелся с Белинским и с его друзьями. Они были близки ему уже по Станкевичу, с которым он познакомился за границей " к которому привязался всей силой души.
Первая новость, встретившая меня в кружке Белинского, это был приезд Грановского…
— Нашего полку прибыло, — сказал мне Белинский: — Грановский здесь. Какой гуманный, симпатичный человек! Я почти не встречал еще в жизни человека, кроме Станкевича, который бы с первой минуты так располагал к себе, как он… Недаром Станкевич так любил его и так горячо писал нам об нем. Действительно, это человек с избранной натурой…
Люди самых противуположных мнений сходились в мнении о Грановском. На вечере у Мельгунова — Шевырев, Хомяков и Павлов отзывались об нем почти точно так же, как Белинский.
Приезд его вообще произвел большой эффект в московских ученых и литературных кружках.
— Я сказал Грановскому, что вы здесь, — сказал мне Белинский: — он желает с вами познакомиться и хочет зайти к вам. Предупредите-ко его.
Любопытство мое насчет Грановского было возбуждено сильно, и я на другой же день отправился к нему, не застал его дома и оставил карточку.
Он жил тогда на казенной квартире, в доме бывшего Московского благородного пансиона, на Тверской.
Грановский отплатил мне визит в тот же день. Я жил наискосок от него — в гостинице Копа…
Грановскому было тогда лет около тридцати.
Черты лица его были крупны и неправильны: нос и губы толстые — лицо это не имело той вульгарной, внешней красоты, которая поражает с первого раза; но его большие, глубокие, темные глаза с меланхолическим оттенком, с надвинутыми густыми и широкими бровями, его открытый лоб, почти черные волосы, зачесанные назад и доходившие до плеч, его грустная, добродушная, кроткая улыбка — все это вместе поражало той внутренней красотой, в которую чем более вглядываешься, тем более она кажется привлекательною… В его движениях, взглядах, голосе, манере говорить (он несколько пришепетывал, что нисколько не портило его) было что-то неотразимо симпатичное. Все женщины были от него в восторге; все мужчины, даже враждебные его убеждениям, не могли не питать к нему личной симпатии.
Всегда несколько робевший перед авторитетами, я сначала смутился было перед новым возникавшим авторитетом молодого профессора, но он так мило и просто обошелся со мною, что после первых объяснений я почувствовал себя совершенно легко и свободно.
Предметом нашего разговора был наш общий знакомый, приятель его и Станкевича, Я. М. Неверов.
После этого я встречался с Грановским на вечерах у Боткина.
Грановский, впрочем, не часто посещал в это время кружок Белинского. Нет сомнения, что он симпатизировал людям, но не мог никак симпатизировать их тогдашним убеждениям. Грановского интересовали более человеческие дела, чем философские отвлечения.
Он, как прекрасно выразился кто-то, "думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду". С его светлым воззрением на современную гражданственность, основанным на историческом знании и изучении, те убеждения, до каких дошли Бакунин и Белинский, опираясь на отвлеченные, философские толкования, должны были казаться ему дикими…
Грановский, впрочем, не высказывался. Он, вероятно, угадывал, что убеждения эти — только минутное заблуждение. Он видел экзальтацию Белинского… и не хотел даже слегка касаться его больной стороны.
К тому же Грановский, мягкий по своей натуре, наделенный большим тактом в обращении с людьми, любящий и снисходительный, понимал, может быть, что ему не совсем выгодно, — несмотря на то, что истина была на его стороне, — вступать в споры с таким яростным бойцом, каков был Белинский, и с таким несокрушимым диалектиком, каков был Бакунин.
Таким образом, Грановский расстался с Белинским, уезжавшим в Петербург, без всяких объяснений. Их короткие, дружеские отношения начались уже после, когда кружок Белинского слился с кружком Искандера.
Месяца через три после отъезда Белинского в Петербург Грановский познакомился с Искандером в проезд сего последнего из Владимира в Петербург.
"Мельком видел я его тогда, — говорит Искандер, — и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека.
Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года (в 1842 г.), когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвращался на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко".
"Он был, — продолжает Искандер, — звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский принадлежат к самим светлым и замечательным личностям нашего круга, несмотря на то, что в них было много непохожего".
Нельзя лучше характеризовать Грановского, как характеризует его Искандер.
"Грановский, — говорит он, — напоминает мне ряд задумчиво-покойных проповедников времен реформации; не тех бурных, грозных, которые в гневе своем чувствуют вполне свою жизнь, как Лютер; а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.
Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов; и действительно, Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям — скорее был бы гугенот и жирондист, нежели анабаптист или монтаньяр"…
Грановский и Искандер привязались друг к другу сильно, несмотря на несходство своих характеров и отчасти воззрений, как оказалось впоследствии. Грановский с своей кроткой и мягкой натурой робко отступал перед суровой логикой Искандера и перед тем, что Искандер называл "бесстрастной объективностию природы"… Искандер шел вперед грудью, напролом, не отступая ни перед чем, не пугаясь никаких выводов, как бы они ни были безотрадны. Отсюда впоследствии должна была произойти между ними неизбежная размолвка.
Но как глубока была привязанность Грановского к Искандеру и Огареву доказывают следующие строки из письма его к Искандеру через два года после отъезда Искандера за границу (в 1849 г.):
"На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, повидимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к душе моей такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса…" В первые годы знакомства Грановского с Искандером между ними существовала, впрочем, полнейшая гармония… В политических убеждениях они всегда сходились; до глубоких же внутренних вопросов касались или слегка, или вовсе не касались; к тому же Искандер в то время еще не доходил до беспощадной крайности своих воззрений и до того желчного сарказма, который проявился у него потом… …Искандер глубоко уважал Белинского, видел, каким мощным полемическим талантом владеет он, сколько энергии в душе его, и скорбел, что эта энергия растрачивается на поддержку отживающих идей… В статье моей о Белинском я говорил о первом посещении Белинского Искандером в январе 1840 года… Объяснение между ними последовало тотчас, иначе и быть не могло. Искандер высказал Белинскому, что он идет по ложной и опасной дороге и бог знает до чего может дойти по ней… Он даже прямо высказал ему — до чего…
Белинский был уязвлен глубоко, он почувствовал, что в жестких словах Искандера было много правды, но еще упорно отстаивал свой образ мыслей, несколько успокаивая себя тем, что взгляды Искандера узки, что его миросозерцание не просветлено гегелевской философией и т. д. Он был видимо поколеблен.