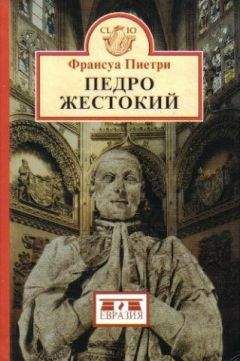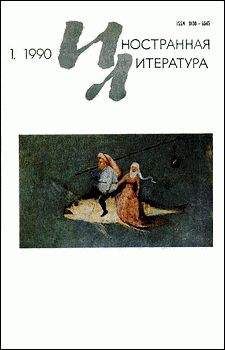До тех пор Груда был просто патриотом, а оказавшись в Варшаве, быстро сделался активным и рьяным коммунистом, и хромота, полученная, можно сказать, в битве с фашизмом, помогла ему получить в Совете профсоюзов скромную должность с еще более скромной зарплатой. Сводить концы с концами помогали ему гонорары за переводы моих книг. Меня в ту пору широко издавали в Польше: «Вы были единственным коммунистическим писателем, которого читала молодежь», — сказал мне много лет спустя Роман Поланский, посетивший Баию. Так что не успел я появиться в Варшаве, как Войцех, отпросившись у начальства, которому сообщил о моем приезде и о том, что без него я пропаду, получил отпуск с сохранением содержания и, как писали в прошлом веке в романах, сделался со мною неразлучен. Лауреат Сталинской премии требовал его постоянного присутствия рядом, а потому Войцех не расставался с ним, завтракал, обедал и ужинал. И этот бразильский пройдоха, заброшенный судьбой в польскую стужу строить социализм, в самом деле мне пригодился — он мне не давал скучать, развлекал и смешил. Ну, а меня ему просто Бог послал.
На следующий день Зе Гильерме, утеплившись как мог — шапка, шуба, шарф, рукавицы, — отправился осматривать новостройки, вернуться должен был лишь вечером, и мы условились, что в таком-то часу поужинаем вместе. Я же решил сыграть с ним шутку — никто из моих друзей не спасся от розыгрышей, — посвятил в свой замысел Войцеха, тот пришел в восторг. Мы отправились на рынок, купили четырех живых кур и петуха — надо признаться, что в те далекие годы польские издатели неукоснительно выплачивали мне деньги за право перевода и издания, так что злотые у меня были в немалом количестве, — привезли несчастных в отель. Я заговорил зубы портье, получил ключ от номера Зе, открыл дверь и запустил птичек внутрь. Последнее, что я видел, — петух взлетел на кровать.
Войцех притащил бумагу с грифом Совета профсоюзов, так как у него дома были залежи фирменных бланков и конвертов, которые он использовал для личных надобностей, и в ожидании Зе я продиктовал ему, а он перевел на польский письмо, подписанное председателем мифического профсоюза польских куроводов. Те, прослышав о том, в каких жутких условиях живут бразильские крестьяне, решили послать им петуха-производителя и четырех лучших несушек в качестве безвозмездного дара и в доказательство неоспоримого превосходства социалистических методов хозяйствования. Предназначаются они беднейшим крестьянам, коих, быть может, сумеют вырвать из нищеты, ибо улучшат породу бразильских кур. Подпись дарителя была неразборчива, но письмо производило сильное впечатление.
Зе Гильерме все не было, а кушать между тем хотелось сильней и сильней, и мы отправились в ресторан. Ужин наш подходил к концу, когда появился журналист.
— Ну что, как фабрики?
— Я потрясен, — сказал он, раскрывая меню. — Прежде чем рассказать вам о фабриках, хочу с вами поделиться. У меня тут возникла проблема, — он вытащил из кармана письмо и протянул его Войцеху. — Переведи, а?
Тот перевел и, видимо тронутый, сказал:
— Вот она, революционная-то солидарность. Как поляк и коммунист я испытываю гордость.
— С этими словами он поднялся и пожал Зе руку. Я чуть не расхохотался. Войцех сложил письмо, сунул его в конверт и вернул адресату:
— Надо ответить.
Журналист, казалось, был чем-то смущен:
— Да, конечно, это великолепный пример интернационализма… Подарок щедрый, но, видишь ли… несколько обременительный, — с заминкой сказал он.
— Это куры, что ли? — спросил я.
— Ну да! Ты бы видел, на что похож мой номер!.. Закакали его весь, к кровати не подойти…
Невероятным усилием воли я сдержал смех. Зе Гильерме просил посоветовать, как ему избавиться от кур. Я принял вид суровый и несколько сумрачный. Ни в коем случае нельзя вернуть подарок — это оскорбление для сельских тружеников и для всей народной Польши. Будем искать иное решение.
И Зе для начала сочинил письмо председателю профсоюза польских куроводов, где от имени бразильского крестьянства благодарил его за великодушие и щедрость. Войцех забрал письмо домой, чтобы перевести.
Потом мы стали размышлять, что же нам делать с курами (и с петухом). Было выпито много водки. Груда, увидев, что друг оказался в безвыходной ситуации, вызвался забрать их на ночь к себе, в свою маленькую квартирку, и лично переловил кур, проявив при этом неожиданную умелость и сноровку, связал им ноги и увез на такси, очень довольный собой. Зе дал ему денег на проезд и на чаевые таксисту, который сперва отказывался везти кудахчущий груз. Прощаясь, Груда пообещал завтра же утром отправить письмо. Я же помог Зе снять с кровати вонючие, сплошь покрытые пометом простыни, предложил одолжить ему собственное постельное белье, но он отказался, свернулся на голом — по счастью, оставшемся чистым — матраце и уснул.
Наутро я поведал ему всю правду, поскольку от перспективы путешествия с курами из Восточной Европы в Южную Америку у него ум заходил за разум. На радостях он даже не рассердился на меня, простил мою жестокую шутку, а Войцеху дал еще денег, чтобы тот купил пряности, коренья и приправы для… ну, понятно, для чего. Груда потом жаловался: «Петух был такой старый и жилистый — пять часов варю, а он все как подошва».
Обед у Калазансов. Парадный обед в честь двух новых почетных граждан Баии, посетивших город, — американки-дипломатки Френсис Суитт и бельгийца Мишеля Шоуянса, священника и профессора университета. Множество гостей, роскошное угощение, где первым номером идет великолепный сарапател88… Пожалуй, только покойная матушка книгоиздателя Дмевала Шавеса, царствие ей небесное, готовила нечто подобное, но рецепт унесла с собой в могилу. Коньяки, виски, вина всех сортов — от эльзасского «Либфраумильх» до нашего «Капелиньо» из штата Рио-Гранде-до-Сул. Это — для веселья, а для утоления моей жажды — кокосовый сок, знак внимания со стороны друзей.
Френсис поместили на втором этаже, а бельгийского кюре, рьяно изучающего все без изъятия народные баиянские празднества, — на первом, у него комната с отдельным входом. Я разглядываю почетных гостей, смеющихся и ведущих оживленную беседу, и спрашиваю, так просто, в шутку:
— Кто к кому шастает по ночам: он к ней поднимается или же она до него снисходит?
Хозяйка, Аута-Роза, обижается:
— Мишель — настоящий священник, он дал обет целомудрия и свято соблюдает его. Это столп веры, кладезь премудрости, образец нравственности. Насчет американки не поручусь, но за нашего кюре руку дам на отсечение, да не одну, а обе.
Подобная убежденность пробивает брешь в стене моего цинизма, заявляю, что сам был свидетем безупречного поведения бельгийца: он любит жизнь, как немногие миряне, он уважает свой сан, как мало кто из лиц духовного звания. После чего, уже не отвлекаясь, приступаю к сарапателу, но занесенная уж было вилка застывает в воздухе, ибо Аута-Роза вдруг во всеуслышание делает следующее заявление:
— Порог этого дома вовеки не переступит рогоносец, будь он хоть миллиардер или всесветная знаменитость! Не допущу!
Ладно, в безгрешность кюре я поверил и даже присоединился к хозяйке, но последнее ее утверждение не смогу проглотить даже с помощью сока незрелого кокоса:
— Не смею возражать, но позволю себе заметить, что мне случалось видеть, как этот самый порог переступают… Нет-нет, я так просто, к слову…
Я ж не сумасшедший и не о двух головах, чтобы спорить с Аутой-Розой. А она, проследив направление моего взгляда, сообщает шепотом:
— Тот, о ком ты говоришь, — не в счет, он — рогоносец наследственный, тут уж ничего не поделаешь, не он виноват, вся порода такая.
И, поскольку училась когда-то в городке Ильеусе в колледже при обители сестер-урсулинок, с ходу начинает отрясать листву и плоды с генеалогического древа ничего не подозревающего гостя:
— …еще прадед его, основатель рода, с большим достоинством носил рога, знаменит этим на всю страну был и дед его, а об отце и говорить-то нечего, он ему и не отец вовсе, жена чуть ли не в открытую жила с соседом, от него и родила…
История захватывающая, но — грешный человек! — я с бґольшим вниманием слежу не за перипетиями сюжета, а за действиями жены героя — последнего барона де Что-то Там: воспользовавшись тем, что американка, позабыв на этот вечер о диете, удалилась попробовать очередное диво баиянской кулинарии, она занимает ее место рядом с кюре. Тот, увлеченно толкуя о синкретизме с достойными собеседниками, поначалу не обращает внимания на Марию-Патоку — как же еще нам обозначить сахарозаводчицу?! — и на ее высоко оголеные бедра. Но как же их не заметить? И вот один просвещенный собеседник устремляет на них взгляд, сладко жмурится второй, и только Мишелю, по-прежнему захваченному разговором, ни до чего нет дела. Мария-Патока со смехом начинает кружить у стула святого отца, желая отвлечь его и привлечь. Дотрагивается до плеча, прикасается к колену, я опасаюсь, что в следующее мгновенье примется расстегивать ему ширинку, благо Мишель не в сутане, а в мирском платье, снабженном этим приспособлением… но, на его счастье, дипломатка Френсис возвращается с полной тарелкой баиянской снеди. Кюре с новым жаром заводит речь о метисации и культурном феномене негритюда. Атака Марии-Патоки захлебывается.