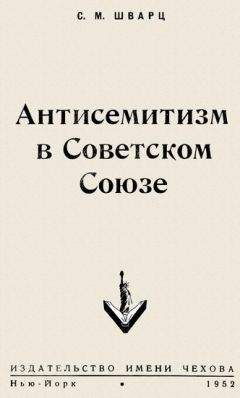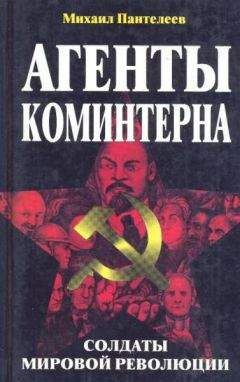Наряду с тем, что Пушкин оказался крепким орешком для скульпторов того времени, эти два конкурса выявили полную несостоятельность академической школы ваяния. Памятник Пушкину должен принадлежать народу, а значит, он и должен отвечать его глубоко народным, реалистическим представлениям о первом поэте России. Завитушки и финтифлюшки, украшавшие жизнь тогдашней знати, здесь были неуместны. Символично, что первым это понял именно Опекушин, плоть от плоти, кровь от крови своего народа.
И второй конкурс завершился лишь присуждением поощрительных премий Опекушину, Забелло и Боку. Была предпринята последняя, третья попытка испытать творческие силы русских скульпторов. Причем посчитали разумным провести это соревнование лишь между двумя скульпторами — А. М. Опекушиным и П. П. Забелло. Чтобы облегчить решение задачи, им было предложено изготовить в увеличенном размере по одной новой модели, исправив прежние по указанию небольшой комиссии экспертов в составе профессора архитектуры Д. И. Гримма, скульптора Лаврецкого и живописцев Келлера и Крамского.
В назначенный срок А. М. Опекушин представил... шесть проектов, П. П. Забелло — два. Однако к двум соревнующимся скульпторам неожиданно, с разрешения Комитета по сооружению памятника А. С. Пушкину, присоединились академики И. Н. Шредер и М. М. Антокольский. Маститый Шредер, который в свое время безуспешно пытался учить технике лепки Микешина, не представлял собой серьезного конкурента. Он уже не в состоянии был преодолеть рутину старой академической школы.
Но вот М. М. Антокольский... Его талант скульптора-новатора набирал силу, уже был высоко оценен в Европе, его признали художественные салоны Рима и Парижа, Лондона и Вены, его “Царь Иван Грозный” и “Император Петр I” по Высочайшему повелению украшали императорский Эрмитаж. Александр Михайлович с интересом и сочувствием следил за творчеством Антокольского, ему нравилось его стремление передать душевное состояние образа, натуралистичность своих героев, если даже они были царями. У Антокольского было чему учиться. И все же Опекушин первым подметил “камерность” Антокольского, он был хорош для пристального разглядывания композиции на подиуме в салоне или в музее, но никак не на открытом пространстве улиц и площадей. Интуиция не обманула Опекушина.
Вероятно, в тот период своей жизни, когда А. М. Опекушин батрачил на удачливого Микешина, он познакомился и с Мордухом Антокольским. Это могло случиться на “четвергах” Артели художников на квартире их лидера Ивана Крамского. В те годы крутой ломки вековечного уклада русской жизни судьба будущих выдающихся художников России была во многом схожей.
Чаще всего попадали в столицу из деревни или провинциальных городов, мыкались по чужим углам, отчаянно бедствовали. Все это прошел и М. М. Антокольский, приехавший из Вильно. Позади была беспросветная жизнь в многодетной еврейской семье, задавленной постоянной нуждой. “Я справлял в семье должность рабочей лошади”, — вспомнит он много лет спустя в автобиографии. Вместе со своим недюжинным талантом резчика по дереву и кости, рекомендательным письмом жены виленского генерал-губернатора А. А. Назимовой к своей приятельнице баронессе Раден, неумением читать и писать по-русски, он приехал в Петербург также с грузом нравов еврейского квартала, чуждых русской среде. Можно представить себе, как нелегко было ему освоиться среди слушателей Академии художеств и учеников рисовальной школы, куда он был определен одновременно. Материально его поддерживал банкир Гинцбург, установивший ему ежемесячную стипендию — 10 руб. серебром (для сравнения: в годы ученичества Саша Опекушин получал от отца 5 руб.).
Взяли верх талант, прилежание и воловье трудолюбие Антокольского. Знаменитый скульптор Н. С. Пименов, в студию которого он попал, сразу же выделил талантливого юношу среди шести других своих учеников. Вскоре о молодом резчике из Вильно заговорили в Академии художеств, с ним познакомился В. В. Стасов, а затем и И. С. Тургенев. Эти два русских гиганта всю жизнь опекали Антокольского, держали его сторону, зачастую в ущерб тем русским скульпторам, которые вступали с ним в творческое единоборство. Вот как оценивался Антокольский в “Истории русского искусства” И. Э. Грабаря:
“Антокольский занимает отдельное место в истории скульптуры. Он один среди евреев ярко выразил расовые черты своей нации, придав всем сюжетам, им затронутым, оттенок совсем особого миропонимания. Антокольский — еврей в своем понимании природы, во взглядах на искусство и действительность, еврей по образу мыслей и выражению их. “Среди евреев я мог бы быть еврейским скульптором в смысле внешности, отличительности, — пишет он, — я потомок тех евреев, на которых Моисей жаловался, что они “народ упрямый, не сгибающий шеи, хотя бы перед судьбой”. Антокольский до конца жизни остался верен своей нации, горячо любя только то, что было связано с нею. Во всей жизни Антокольского, в его скульптурах: “Скупой еврей” (1865 г.), “Инквизиция над евреями в Испании” (1868 г.), “Еврей-портной” (1874 г.), даже в его переписке, изданной и обработанной до неузнаваемости В. Стасовым, красной нитью проходит эта национальная черта” (2).
Какой “обработке” подвергались письма Антокольского, можно судить по следующему примеру из письма к художнику Н. Ге: “Петр, действительно, обхватывает меня; он работается потому не чуть должен бить хуже Ивана а напротив а между тем средство этого ужасно как мало и оттого то я работаю его только одним духом ибо дух только должен выражит Петря, должен потому что для него ничего не жалею даже самаго себе” (3).
Иногда не надо тратить многих усилий, чтобы понять, о чем идет речь, что волнует Антокольского. Из письма С. Боткину совершенно ясно, что агрессивность Антокольского имеет чисто еврейское происхождение. “Я, как храбрый воин, — пишет он, — закрывши глаза, махаю шаблем по воздуху” (4). Или: “Вы видите я говорю одно, а делаю совершенно другое” (5).
В середине 70-х годов в три тура проходил конкурс на памятник Пушкину для Москвы. В первых двух турах Антокольский не участвовал, живя в Риме, но с помощью переписки с Тургеневым, Стасовым и Крамским внимательно следил за творческим состязанием скульпторов в Петербурге. А когда пришло время третьего, решающего, он вдруг представил свою модель, разумеется, учтя прежние промахи конкурсантов. Расчет был простой: скульпторы, прошедшие изнурительный многолетний марафон, сдадут на финише, и победа достанется ему. Так он поступал не раз.
В. В. Стасов и И. С. Тургенев, очарованные талантом Антокольского и помогавшие ему советами, заранее расхвалили его модель, не скупясь на эпитеты: “превосходная”, “оригинальная”, “впервые в мировом искусстве” и т. п. Но когда выставка конкурсных проектов была открыта для всеобщего обозрения, в столичной и московской прессе развернулось настоящее сражение. Мало кто разделил мнение В. В. Стасова и И. С. Тургенева. Даже И. Н. Крамской, благоволивший к М. М. Антокольскому, назвал его модель “памятником не Пушкину, а самому себе”, имея в виду авторское честолюбие. Представленная на третий конкурс модель Антокольского разочаровала самых горячих поклонников его таланта. Не исключая такого исхода, скульптор вывесил перед своей моделью аншлаг: “Я покорно прошу не смотреть на мою работу как на модель памятника, а лишь как на первоначальный эскиз, которого я, к сожалению, не мог довести до желаемых результатов, принужденный обстоятельствами уехать в Рим к семейству. Много в моем проекте недостает, даже целых фигур, которых я не успел сделать, например фигуры Русалки внизу у воды, под фигурой Мельника. Также я имел в виду изменить форму скалы и скамейки, на которой сидит Пушкин, так как первоначально предполагались вместо скалы архитектурные формы. Кругом подножия скалы я думал устроить со всех сторон бассейн с водой”. Как уже догадался читатель, Антокольский представил многофигурную композицию с персонажами из произведений А. С. Пушкина. Некое застывшее в бронзе театральное действо. На вершину скалы, где в задумчивой позе сидит поэт, вереницей поднимаются герои его поэм: вот неверным шагом ступает Мазепа, опираясь рукой о скалу, перед ним Пугачев со скрученными за спиной руками, выше Моцарт беззаботно ступает по камням, читая ноты, а за его спиной заговорщически прижимается к стене Сальери. Еще выше летописец Пимен устремил свой взгляд в спину Царя Бориса Годунова, который прикрылся рукой от тени отрока Царевича Дмитрия, и его качнуло к краю пропасти и т. д. Трудно представить себе нечто более несуразное на Пушкинской (б. Страстной) площади среди снующей толпы и рядом с бесконечным потоком транспорта на главной магистрали Москвы.
Антокольский, хотя и находившийся с 1868 года вдали от России, конечно, знал, что мысль сопроводить основную скульптуру памятника персонажами из произведений Пушкина уже приходила в голову другим скульпторам, в том числе Опекушину, и была дружно отвергнута как прессой, так и комитетом по сооружению памятника. Но он решил эту идею воплотить по-своему — в подчеркнуто реалистической, или, скорее, натуралистической форме, как бы в пику псевдоклассическим аллегориям, навязываемым академической школой.