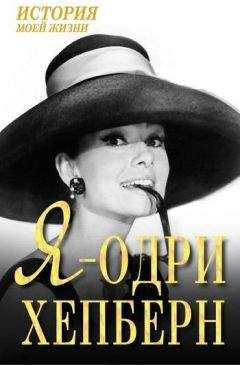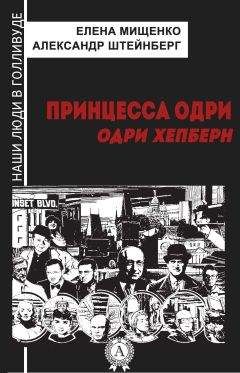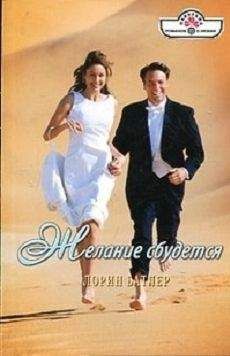шумная. Они послушные – я грубиянка. Они брали уроки фортепиано и выигрывали призы за безупречные манеры. Я украла деньги из папиного кармана и сломала лодыжку, скатившись на санках. Они были симпатичные, а я – темная. Плохая, хулиганка, прирожденная безобразница, каких поискать.
Плохая – значит Черная? Бесконечно оттирать с лимонным соком все трещинки и впадинки моего созревающего, темнеющего тела. О, грехи моих темных локтей и коленок, моих десен и сосков, складок моей шеи и пещер моих подмышек!
Руки, которые пытаются схватить меня из-за лестничного пролета, – Черные руки. Руки мальчишек, они бьют, обтирают, щипают, тянут меня за платье. Я швыряю в бак мешок с мусором, который тащила, и отскакиваю, взлетая вверх по лестнице. Вслед мне несется улюлюканье. «Давай-давай, беги, уродина, сука желтая, погоди еще!» Очевидно, цвет относителен.
Мама с раннего детства учила меня выживанию на собственном примере. Но еще ее молчание научило меня изоляции, ярости, недоверию, самоотвержению и печали. Выжить для меня означало научиться применять оружие, которое она дала мне, еще и против этих неназванных вещей внутри меня.
А выживание – величайший дар любви. Иногда для Черных матерей это единственное, что они могут подарить, а нежность теряется. Моя мать привела меня в эту жизнь, словно выгравировала гневное сообщение в мраморе. И всё же я выжила среди окружающей ненависти благодаря тому, что обиняками и намеками мать дала мне понять: что бы ни происходило дома, жизнь за его стенами не должна быть такой, какая она есть. Но поскольку она была именно такой, я продиралась сквозь трясину непонятого гнева, который окружал меня и выплескивался на тех, с кем у нас было общее ненавидимое «я» и кто оказывались ближе всего ко мне. Конечно, тогда я этого не понимала. Этот гнев залегал глубоко внутри меня, как ядовитое озеро, и всякий раз, когда я сильно чувствовала, я ощущала, как он цепляется к самым неожиданным местам. К тем, кто так же безвластны, как и я. Моя первая подруга спросила: «Почему ты всё время дерешься? Ты что, только так умеешь дружить?»
Есть ли в этом мире кто-нибудь, кроме Черной женщины, кому пришлось научиться выживать, познав столько ненависти, и продолжать идти вперед?
Недавно закончилась Гражданская война. В сером здании больницы на 110-й улице в Нью-Йорке [166] кричит женщина. Она Черная, и она здорова, и ее привезли сюда с Юга. Я не знаю ее имени. Ее дитя готово родиться. Но ее ноги были связаны вместе из любопытства, выдающего себя за науку. Ребенок толкается в ее кости, пока не умирает.
Где ты, семилетняя Элизабет Экфорд из Литл-Рока в Арканзасе [167]? Ясным утром понедельника ты в первый раз идешь в новую школу, покрытая плевками, и белая ненависть стекает по твоему розовому свитеру, а кривящийся рот чьей-то белой матери – дикий, нечеловеческий – разевается над твоими задорными косичками, которые поднимают торчком розовые ленточки.
Нумвуло пять дней шла пешком с того пустынного места, где ее высадил грузовик. Под кейптаунским южноафриканским дождем она стоит босиком в колее от бульдозера там, где раньше был ее дом [168]. Она подбирает кусок промокшей картонки, которая когда-то покрывала ее стол, и прикрывает им голову своего малыша, привязанного у нее за спиной. Вскоре ее арестуют и увезут обратно в резервацию, где она не будет знать даже языка, на котором говорят другие. Она никогда не получит разрешения жить рядом с мужем.
Двухсотлетие [169] в Вашингтоне. Две полные Черные женщины сторожат пожитки, сваленные в кучу на тротуаре перед домом. Мебель, игрушки, узлы одежды. Одна женщина носком туфли безучастно раскачивает игрушечную лошадку. Через улицу, на торце здания напротив висит транспарант с надписью черными буквами высотой с целый этаж: «БОГ ВАС НЕНАВИДИТ».
Эдди Мэй Коллинз, Кэрол Робертсон, Синтия Уэсли, Дениз Макнейр. Четыре Черных девочки, все не старше десяти, поют свою последнюю осеннюю песню в воскресной церковной школе в Бирмингеме, штат Алабама. После того как рассеивается дым от взрыва, невозможно понять, к чьей найденной ножке относится какая ступня в лакированной воскресной туфельке [170].
Какой еще человек впитывает в себя столько смертельной вражды и продолжает жить?
У Черных женщин есть своя история применения власти, в одиночку и совместно: от легионов дагомейских амазонок до Яаа Асантева, королевы-воительницы Ашанти [171], от повстанки Гарриет Табмен до богатых и влиятельных гильдий торговок в современной Западной Африке. У нас есть традиция близости, взаимной заботы и поддержки – от женских дворов при королевах-матерях Бенина и до современного Сестринства доброй смерти – сообщества старых женщин в Бразилии, сбежавших рабынь, которые помогают выбраться, дают убежище другим рабыням и заботятся друг о дружке [172].
Мы – Черные женщины, рожденные в обществе закоснелой ненависти и презрения ко всему Черному и женскому. Мы сильные и стойкие. И мы изранены. Африканские женщины, вместе мы когда-то своими руками сделали землю плодородной. Мы можем заставить землю приносить плоды, но можем и встать в авангарде на линии огня в защиту Короля. И после того как мы убивали во имя него и нас самих (говорит винтовка Гарриет, вскинутая на плечо посреди зловещего болота [173]), мы не забываем, что сила убивать не так велика, как сила созидать, ведь она порождает конец, а не начало чего-то нового.
Гнев – страсть недовольства, которая может быть чрезмерной или неуместной, но необязательно несет вред. Ненависть – эмоциональная привычка или состояние ума, в которых отвращение сочетается со злой волей. Когда гнев используется, он не разрушает. Ненависть разрушает.
Расизм и сексизм – взрослые слова. Черные дети в америке не могут избежать этих искажений в своей жизни, и слишком часто у них нет слов, чтобы назвать их. Но они верно распознают и то, и другое как ненависть.
Взрослеть, переваривая ненависть, как хлеб насущный. За то, что я Черная, что я женщина, что я недостаточно Черная, что я не та или иная фантазия о женщине, что я ЕСТЬ. На таком систематическом питании можно в конце концов начать ценить ненависть врагов больше, чем любовь подруг, ведь эта ненависть рождает гнев, а гнев – это мощное топливо.
И правда, порой кажется, будто один лишь гнев и поддерживает во мне жизнь – он горит ярким и негаснущим пламенем. Однако гнев, как и чувство вины, – это неполная форма человеческого знания. Он полезнее ненависти, но всё же ограничен. Гнев полезен для прояснения наших различий, но в конечном счете сила, порожденная одним лишь гневом, – бесплодная стихия, которая не может создавать будущее.