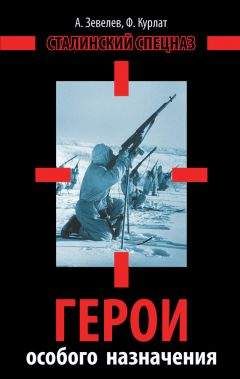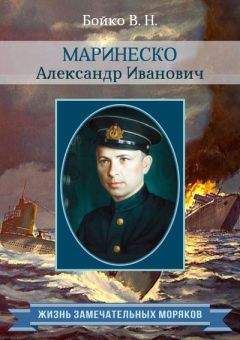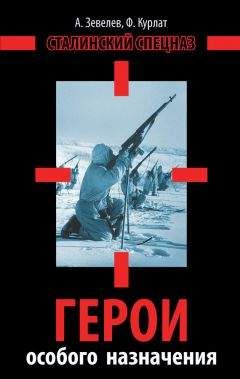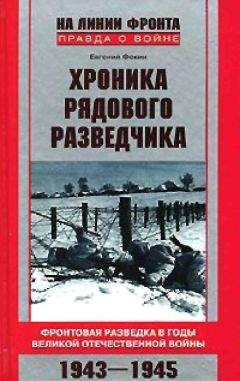Что же касается уродливых явлений lt;церквиgt;, которые ты описываешь, то я понимаю, что это может быть смешно; понимаю также, что можно испытывать к ним острую жалость, как к уродливо искривлённым карликовым деревьям, выросшим в какой-нибудь щели или трещине, вне условий, необходимых для правильного развития… Не думай, что я таких явлений не знаю… Знаю их и, кажется, кроме жалости испытываю ещё и другое чувство: уважение к lt;церквиgt;. За непоколебимость и силу”. (Письма А. Андреевой от 28 января и 3 апреля 1956 г.)
К сказанному можно добавить, что одновременно с Даниилом Андреевым свою лагерную Голгофу на Колыме проходил православный монах отец Арсений. Однажды он был помещён в неотапливаемый карцер на три дня. Температура снаружи была минус сорок, в карцере не намного теплее. Арсений спасся Иисусовой молитвой, практикуя её круглосуточно в течение всего срока пребывания в карцере. Он видел, как в тюремном помещении появились два ангела и волнами тепла согревали его. Когда лагерные охранники открыли дверь карцера, они были потрясены, увидев узника живым и невредимым. Так что Даниил Леонидович знал, что говорил об уважении к церкви “за непоколебимость и силу”. Знал и себя, что такой степени этих качеств, как отец Арсений, не достиг. Но смог пронести через жизнь драгоценные качества человека, описанные им в стихотворении “Гумилёв”:
Но одно лишь сокровище есть
У поэта и у человека:
Белой шпагой скрестить свою честь
С чёрным дулом бесчестного века.
…Будь спокоен, мой вождь, господин,
Ангел, друг моих дум, будь спокоен:
Я сумею скончаться один,
Как поэт, как мужчина и воин.
В своём личном противостоянии “чёрному дулу века” Даниил Андреев, как и Николай Гумилёв, оказался на высоте времени, но в философской трактовке этого противостояния в целом отступил к манихейству. Настоящее православие в лице монахов-подвижников, священников типа Дмитрия Дудко или таких религиозных философов, как Павел Флоренский, оценивало жестокости своего времени как “попущение Божие”, укладывающееся в рамки Божественного контроля. И очищение человека возможно через серьезные испытания. Достаточно вспомнить библейскую Книгу Иова.
Конечно, было бы, наверное, неправильно задним числом делать из Даниила Андреева некоего православного философа или мистика, но в точности так же было бы ошибочным превращать его во врага церкви и настаивать на его отлучении. В конце концов все, что сказал Андреев в свoeй “Poзe Мира” и остальном творчестве — это своего рода исповедь, причем исповедь абсолютно честная, а за исповедь не отлучают.
Россия в мрачные годы правления Сталина много потеряла, но ещё больше приобрела. Она прибавила к русскому характеру и внесла в русскую духовность то, что не купишь ни за какие доллары и не выработаешь никаким образованием и воспитанием: мужество, стойкость, умение не сдаваться в самых тяжких обстоятельствах, “плотных” и “тонких”. Прошедшие через страшные жернова эпохи, но не озлобившиеся, выжившие, сохранившие и умножившие в себе лучшие качества люди: Рокоссовский, Шолохов, Туполев, Курчатов, Клюев, Ахматова — и несть им числа, известным и безвестным, — продемонстрировали миру новый тип праведника в миру, так же как отец Арсений и многие другие православные подвижники эпохи ГУЛАГа показали, что жив такой праведник и в лоне церкви. Таким образом, наше понимание праведности и духовности в годы советской власти расширилось, мы убедились, что нельзя сводить его к одной воцерковлённости. Даниил Андреев фактически доказал, что без сталинской “репетиции” Россия не выдержит грядущую эпоху антихриста. Тем более странной выглядит его однозначно отрицательная и потому односторонняя оценка личности Сталина. Конечно, это прежде всего вызвано личными переживаниями и личной судьбой, но с другой стороны — издержками роста ребёнка, ещё играющего с кукольным мишкой и ожидающего отдыха вместе с ним в раю. В другом стихотворении Андреев роняет замечание, что боится оказаться в ряду “тёплых” среди ожесточённой схватки “горячих” и “холодных”. Он был слишком честен, прежде всего перед самим собой, чтобы скрывать недостатки собственного роста и духовного состояния. По словам И. В. Усовой, “за несколько лет нашей с ним дружбы он не сказал ни слова неправды. Он настолько был рыцарем слова, что даже не предполагал и в других (в кого он поверил) возможности играть словами, актёрствовать с их помощью. И благодаря такой вере в слова иногда оказывался совершенно слепым по отношению к тем, кто умело пользовался ими. И это наряду со сверхчеловеческой зрячестью по отношению к областям невидимым, к потустороннему”.
Удивительный сплав детской доверчивости, рыцарской честности и “сверхчеловеческой зрячести”, по характеристике Усовой, конечно же, не вовлёк Андреева в стан “тёплых” на земле, но сыграл с ним злую шутку в общении с миром потусторонним. Из поучений православных исихастов, из теософии мы знаем, что в том мире немало сил и сущностей, которые влияют на земных людей и которых можно отнести к категории сомнительных “шептунов”.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА
Они глубоки и своеобразны, как всё написанное им. В “Розе Мира”, а также в своих стихах он дал портреты Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Владимира Соловьева, Хлебникова, Николая Гумилёва, других выдающихся русских литераторов. Иногда они предстают как обитатели “затомисов” — высших слоев “метакультур”, по терминологии Андреева. Иногда же визионерские комментарии у автора “Розы Мира” отсутствуют, он рассуждает о поэтах и писателях как обычный литературовед. Но во всех случаях явно тяготеет к тем ликам, что ближе ему по духовному складу: Лермонтову, Владимиру Соловьёву, Блоку. Характерно в этом смысле сопоставление Пушкина и Лермонтова. Признавая в Пушкине “вестника” и великого русского гения, Андреев отдаёт предпочтение Лермонтову.
“Если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лоно не только российской, но и других метакультур.
Миссия Пушкина хотя и с трудом, и только частичная, но всё же укладывается в человеческие понятия; по существу, она ясна.
Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры”.
Как “метакультурное” явление Андреев оценивает Лермонтова гораздо выше Байрона и ставит его в один ряд с Эсхилом, Данте, Гёте, Толстым, некоторыми другими именами мировой культуры, очень немногими. Для него вышеозначенные имена — живые реинкарнации мифа о титанах, восставших в своё время против богов. Доказательством, по его мнению, являются богоборческие мотивы, присутствующие в творчестве названных литераторов. Можно спорить, так это или не так, являются ли Лермонтов и Эсхил реальными наследниками древнего мифа или не являются, но нет других версий, объясняющих присутствие в творчестве этих писателей, с одной стороны, богоборческих тенденций, с другой — высочайшей религиозности и смирения перед Богом. По мысли Даниила Андреева, восстав против богов, титаны впоследствии покаялись, смирились и стали самыми глубокими, самыми последовательными слугами Бога в высочайшем смысле слова. А их нынешнее “богоборчество” есть лишь память о прошлом и защита Бога от профанации толп и церковной бюрократии.
Опять-таки, соглашаясь или не соглашаясь с этими неординарными рассуждениями, можно усомниться в ясности для автора “Розы Мира” миссии Пушкина, которая таинственно и покоряюще светла именно потому, что лишена богоборчества.
Больше всего “литературных” страниц “Розы Мира” посвящено Владимиру Соловьёву и Блоку. Это понятно. Оба поэта были визионерами, хотя и не в такой степени, как Даниил Андреев. Но вот ведь штука: то, что Андреев считает самой сильной стороной творчества Блока — его видения Прекрасной Дамы, сам Блок впоследствии оценивал как наваждения. И в этом смысле он вел себя подобно любому православному подвижнику, борющемуся с “прелестями”. В статье “О состоянии русского символизма” Блок называет привидевшуюся ему красавицу, описанную в стихотворении “Незнакомка”, “мёртвой куклой на катафалке”, которая высасывает все душевные силы. От видений “незнакомок” и других обитателей тонкого мира Блок уходил к лицезрению реальной России.
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые -
Как слёзы первые любви.
Тебя любить я не умею,
И крест свой бережно несу.
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Пускай заманит и обманет,
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота отуманит
Твои прекрасные черты. (Выделено мною. — Ю. К.)
Этими строками Блок недвусмысленно заявил, что выбрался из тенёт, в которых, к сожалению, пребывал автор “Розы Мира”, и поднялся к новым поэтическим высотам, Даниилом Андреевым не достигнутым. Однако сам Андреев рассматривал отход Блока от визионерства к земной действительности как постепенную деградацию человека, а затем и поэта. Не отказывая поэме “Двенадцать” в гениальности, он уточняет: “Но в осмыслении Блоком этой бунтующей эпохи спуталось всё: и его собственная стихийность, и бунтарская ненависть к старому, ветхому порядку вещей, и реминисценции христианской мистики, и неизжитая его любовь к “разбойной красе” России-Велги, и смутная вера, вопреки всему, в грядущую правду России-Навны. В итоге получился великолепный художественный памятник первому году Революции, но не только элементов пророчества — хотя бы просто исторической дальновидности в этой поэме нет. “Двенадцать” — последняя вспышка светильника, в котором нет больше масла. Это отчаянная попытка найти точку опоры в том, что само по себе есть исторический Мальстрём, бушующая хлябь, и только; это предсмертный крик”.