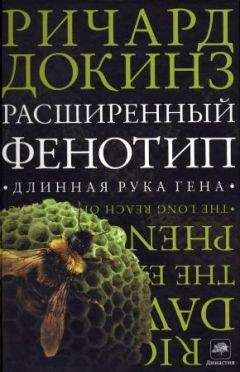Философская критика первой половины XIX века с полным основанием отбросила механистический взгляд на художественное творчество как деятельность произвольную и сообразную с внешней целью. Но, с другой стороны, она утратила понимание активной общественной роли искусства. Принимая верное положение, что в искусстве важен не субъективный замысел художника, а прежде всего то, что сказалось в его произведении на самом деле, объективно, в качестве истины в форме созерцания, идеалистическая философская критика делала ложный, односторонний вывод. Она полагала, что субъективная позиция настоящего художника состоит в пассивном созерцании абсолютной гармонии мироздания, где исчезают все конечные потребности и нужды, где всякая неудовлетворенность и борьба интересов представляются только преходящим моментом истины, конкретной целостности (тоталитета). Такая резиньяция, возведенная в принцип философии и литературы, исключает из области художественного творчества общественный идеал будущего, предписывает художнику эстетическое безразличие к бурям этого мира и предлагает ему стремиться только к формальному идеалу прекрасного.
В идеалистической философской критике мы также находим дурное смешение сущего и должного, подобно тому как это было в критических системах XVII XVIII веков, но с противоположным акцентом. Если прежняя критика требовала, чтобы литература учила нравственности, а искусство украшало жизнь, то немецкая философская критика, возвещая абсолютную цель художественного творчества, также выдвигала свои догматические требования. Она тоже заключалась в показании того, что "должен был сделать писатель и насколько хорошо выполнил он свою должность". Только должность писателя, согласно рецептам немецких идеалистов, состояла в том, чтобы избегать всякого долженствования, способного отвратить его от спокойного созерцания действительности в образах. Когда писатель не мог удержаться в рамках этого эстетического идеала, его искусство представлялось явлением более низкого порядка. Таким образом, реалистическое зерно, заключенное в философской критике, превращалось в свою собственную противоположность. Известно, что классицизм был далеко не чужд главному направлению немецкой мысли этого времени в лице Гете и Гегеля.
Здесь начинается новая ступень истории критики, на которой дальнейшее движение вперед стало возможно благодаря деятельности великих русских мыслителей XIX века. Французский и немецкий типы критики с различными изменениями господствуют на Западе и в настоящее время. Это внешнее социально-историческое объяснение и формальный разбор, с одной стороны; философская интерпретация художественного произведения как иероглифа мысли с другой. От Кондильяка до litterature comparee дистанция огромного размера, но во многих привычно незаметных умственных приемах метод и понимание литературы остались те же, что во времена давно минувшие. Только оригинальности и общественного пафоса стало гораздо меньше. То же самое нужно сказать о философской критике от Шлегелей до современной феноменологии и "философии существования".
3
Русская критика XIX века представляет собой совершенно новую область, особый материк, богатый самостоятельной жизнью. Без овладения наследством русской общественной мысли дальнейшее развитие художественной критики и науки о литературе едва ли возможно.
Конечно, в России в соответствующие периоды существовали те же умственные направления, что и на Западе. Так, Сумароков разбирает оды Ломоносова строфа за строфой, подобно тому как это делал знаменитый Малерб. "Первыми нашими критиками,- говорит Белинский,- были Карамзин и Макаров. Особенно славились в свое время - разбор Карамзина "Душеньки" Богдановича, а Макарова - сочинений Дмитриева. Критика эта состояла в восхищении отдельными местами и в порицании отдельных же мест, и то больше в стилистическом отношении. Обыкновенно восхищались удачным стихом, удачным звукоподражанием и порицали какофонию или грамматические неправильности. Не такова уже критика Мерзлякова. Ложная в основаниях, она уже толкует об идее, о целом, о характерах; она строга сколько может быть строгою". "Как эстетик и критик, Мерзляков заслуживает особенное внимание и уважение. Ученик Буало, Баттё и Лагарпа, он следовал теории, которая теперь уже вне спора и даже насмешек; но он следовал ей и проповедовал ее, как умный и красноречивый человек. Ложны были его основания, но он был им везде верен и развивал их последовательно и живо. Словом, в этом отношении на Мерзлякова можно смотреть, как на умного представителя литературных понятий целой эпохи. В ошибках его виновато его время; достоинства его принадлежат ему самому" (6, 216, 215).
В 20-х годах XIX века в русской критике появилось философское направление, которое можно сопоставить с аналогичными течениями немецкого романтизма в философии. Оно нашло себе выражение в альманахе "Мнемозина", изданном в четырех выпусках В. Ф. Одоевским и В. К. Кюхельбекером в 1824-1825 годах и затем в журнале "Московский вестник" (1827-1830), объединившим вокруг себя кружок так называемых любомудров. Но характерно, что "Московский вестник" вскоре захирел, чему в немалой степени способствовало отвлеченно-книжное, хотя и весьма благородное направление журнала. На русской почве идеализм немецкого типа не мог получить значительного развития, и подобные тенденции на университетской кафедре или в изданиях любомудров остались интересными, но карликовыми растениями.
Большие умы, как величайший русский поэт Пушкин, чувствовали необходимость другого пути. Они понимали, что формализм Баттё и Лагарпа безнадежно устарел, и это объединяло их с философским течением 20 - 30-х годов. Вместе с тем все направление творчества
Пушкина было совершенно свободно от идеалистического, книжного глубокомыслия, немецкой темноты и учености. Он до конца своих дней сочувствовал великим традициям века Просвещения, и его искусство стало гениальным образцом живого развития этих традиций среди иного исторического ландшафта, полного грозных предзнаменований и могучей, реальной диалектики общественных сил. В России родилась великая реалистически-художественная школа. Пушкин и Гоголь были ее первыми именами мирового значения. Эта литература нуждалась в критике нового типа, и такая критика возникла в лице Белинского.
В начале своего развития, говорит Белинский, русская критика представляется иногда то "чопорным аббатом XVIII века, то немецким буршем с длинными растрепанными волосами на плечах, с трубкою во рту и дубиною в руке" (5, 90). Но все это осталось незначительным, явлением. И недаром это было так - история берегла русскую общественную мысль для свершения дел, требующих иного кругозора.
В 30-х годах XIX века Белинский сам еще выступает сторонником философской критики. Он презрительно третирует французов, склонных рассматривать художественное творчество как механическую деятельность, в которой художник к известному содержанию подбирает форму. Но даже в этот период своего развития Белинский далек от погружения в пучину умозрительного метода. Говоря о задачах критики в России, он писал: "У нас принесет пользу критика высшая, трансцендентальная: она необходима; но она у нас должна являться многоречивою, говорливою, повторяющею саму себя, толковитою. Ее целью должен быть не столько успех науки, сколько успех образованности. Наша критика должна быть гувернером общества и на простом языке говорить высокие истины... Немцы обладают умозрением, но не мастера посвящать профанов в свои таинства, их может понимать их же каста - ученые; французы зыбки и мелки в умозрении, но мастера мирить знание с жизнию, обобщать идеи". Русская критика, если она хочет отвечать потребностям родной страны и запросам всего движения мысли в мире, должна избежать обеих крайностей, "потому что, с одной стороны, идея всегда должна быть зерном учения, но не должна пугать своею глубиною, должна быть доступна; с другой стороны, практические начала без основной идеи - пустой орех, которого не стоит труда грызть". И Белинский оканчивает свои рассуждения 1836 года следующим выводом: "Во всяком случае, не надо забывать, что русский ум любит простор, ясность, определенность: чистое умозрение его не отуманит, но отвратит от себя; фактизм может сделать его мелким, поверхностным" (1, 260).
Если присмотреться к требованиям, которые выдвигает Белинский перед русской критикой, то легко заметить, что его коренной идеей является единство теории и практики, науки и жизни. Он не раз возвращается к мысли, что в странах Запада эта проблема не получила окончательного решения.
"История русской критики та же, что и история русской поэзии и литературы: постепенное стремление из эха господствующих в Европе мнений перейти в самобытный взгляд на искусство". Так пишет Белинский в одной из своих позднейших, более зрелых статей. Но в чем заключается истинная самобытность на фоне исторически зрелой мировой культуры XIX века? Она, конечно, состоит в каком-то новом, местном варианте давно известных умственных систем, в самостоятельном "открытии Америки" "Мы уже и теперь не можем удовлетворяться ни одною из европейских критик, замечая в каждой из них какую-то односторонность и исключительность И мы уже имеем некоторое право думать, что в нашей сольются и примирятся все эти односторонности в многостороннее, органическое (а не пошлое эклектическое) единство. Может быть, и назначение нашего отечества, нашей великой Руси состоит в том, чтоб слить в себе все элементы всемирно-исторического развития, доселе исключительно являвшегося только в Западной Европе" (5, 90).