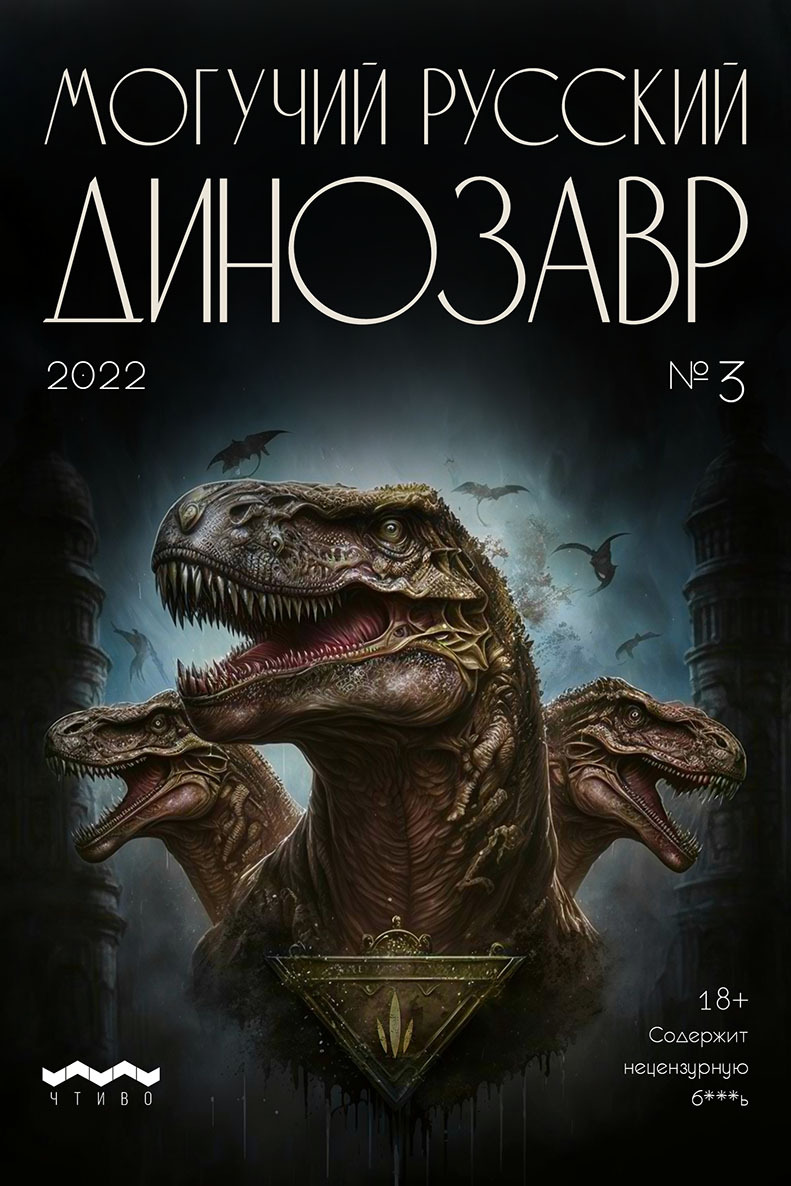полагает себя только как таковое, которое стремится быть просто отображением внешнего мира (реального или воображаемого, но внешнего), иными словами, не включает собственный критический комментарий. Массовое внедрение в представление
аллюзий, насмешки, юмора, вообще
второй степени, очень скоро подорвало искусство и философию, превратив их в обобщенную риторику. Любое искусство, как и любая наука, – это способ коммуникации людей. Очевидно, что эффективность и интенсивность коммуникации снижаются и могут сойти на нет, как только возникает сомнение в истинности слов, в искренности выражения (можно ли, к примеру, вообразить науку
второй степени?). Тенденция к творческому оскудению в искусстве, таким образом, не что иное, как оборотная сторона характерной для нашего времени невозможности
разговора. Ведь сейчас в обычном разговоре все происходит так, словно прямое выражение какого‐либо чувства, эмоции или мысли стало невозможным, ибо оно слишком банально. Все нужно пропустить через искажающий фильтр
юмора – юмора, который, естественно, в конечном счете работает вхолостую, оборачиваясь трагической немотой. Отсюда и пресловутая “некоммуникабельность” (надо отметить, что широкая эксплуатация этой темы нисколько не помешала некоммуникабельности распространиться на практике и оставаться актуальной как никогда, хотя людям порядком надоело рассуждать о ней), и столь же трагическая история живописи в XX веке. Эволюция живописи в наше время стала отображением эволюции человеческой коммуникации; правда, тут можно говорить не о прямом подобии, а скорее о некоем сходстве атмосферы. В обоих случаях мы оказываемся в болезненной, насквозь фальшивой атмосфере, где все смехотворно и где самая смехотворность перерастает в трагедию. Поэтому среднестатистическому прохожему, оказавшемуся в картинной галерее, не стоит оставаться там слишком долго, если он хочет сохранить ироническую отстраненность. Через несколько минут он помимо своей воли испытает легкую растерянность или, во всяком случае, некое оцепенение, некое неудобство, тревожное замедление юмористической функции.
(Трагизм возникает ровно в тот момент, когда объект осмеяния больше не воспринимается как fun [7]. Происходит нечто вроде резкой психологической инверсии, которая означает появление у человека неодолимого стремления к вечности. Рекламе удается избежать этого нежелательного для нее эффекта только с помощью непрестанного обновления своих симулякров, но живопись по‐прежнему стремится следовать своему предназначению – создавать долговременные объекты, наделенные своеобразием. Именно эта ностальгия по бытию и придает ей горестный ореол и в итоге волей-неволей делает ее верным отражением той духовной ситуации, в какой пребывает западный человек.)
Стоит отметить, что литература в тот же период находится в относительно добром здравии. Это легко поддается объяснению. Литература по сути своей – искусство концептуальное; собственно говоря, это единственный концептуальный вид искусства. Слова – это концепты, штампы – это тоже концепты. Нельзя ни утверждать, ни отрицать, ни подвергать сомнению, ни высмеивать что бы то ни было без помощи концептов и без помощи слов. Отсюда и удивительная живучесть литературной деятельности: она может самоопровергаться, саморазрушаться, объявлять себя невозможной, не переставая при этом быть самой собой; она выдержит любые рекурсивные приемы, любую деконструкцию, любую степень, какими бы изощренными они ни были; упав, она снова встанет на лапы и отряхнется, точно собака, вылезшая из пруда.
В противоположность музыке, в противоположность живописи и кино литература способна проглотить и переварить насмешку и юмор в неограниченном количестве. Опасности, подстерегающие ее сегодня, не имеют ничего общего с теми опасностями, которые подстерегали, а порой и разрушали другие искусства. Опасности эти связаны преимущественно с ускорением ритма восприятий и ощущений, присущих логике гипермаркета. В самом деле, ведь книгу можно оценить только постепенно, она требует обдумывания (не столько в смысле интеллектуального усилия, сколько в смысле возвращения вспять). Не бывает чтения без остановки, без попятного движения, без перечитывания, – а это вещь невозможная, даже абсурдная в мире, где все изменчиво, все текуче, ничто не имеет устойчивой ценности – ни правила, ни вещи, ни живые существа. Изо всех сил (а силы у нее когда‐то были могучие) литература сопротивляется понятию непрерывной актуальности, вечно длящегося настоящего.
Книги ждут читателей, но у этих читателей должно быть свое, индивидуальное и стабильное существование: они не могут быть чистыми потребителями, чистыми фантомами; в каком‐то смысле они должны быть субъектами.
Измученные трусливой манией политкорректности, замороченные потоком псевдоинформации, создающей у них иллюзию постоянного изменения категорий бытия (якобы мы уже не можем мыслить так, как мыслили десять, сто, тысячу лет назад), современные западные люди больше не способны быть читателями, они уже не могут удовлетворить смиренную просьбу раскрытой перед ними книги: быть просто человеческими существами, мыслящими и чувствующими самостоятельно.
Тем более они не могут играть эту роль перед другим человеком. А следовало бы, ибо этот распад личности – распад трагический. Каждый, испытывая мучительную ностальгию, требует от другого того, чем сам он быть уже не может; точно бесплотный, безглазый призрак, он ищет полноту бытия, которой не находит в себе самом. Ищет прочность, долговечность, глубину. Ищет, но, разумеется, не находит, и его одиночество нестерпимо.
Смерть Бога на Западе стала прелюдией к грандиозному метафизическому сериалу, который продолжается и в наши дни. Всякий специалист по исторической психологии сможет подробно воссоздать различные этапы этого процесса. Коротко говоря, христианство мастерски умудрялось сочетать в душе человека исступленную веру – по сравнению с Посланиями апостола Павла вся культура античности кажется нам сегодня до странности благоприличной и тусклой – с упованием на вечную сопричастность Высшему, абсолютному бытию. После того как эта мечта угасла, были сделаны многочисленные попытки дать человеку надежду на какой‐то минимум бытия, примирить мечту о бытии, которая жила в его душе, с назойливым, повсеместным присутствием изменения и становления. Но до сих пор все эти попытки оказывались безуспешными, и беда продолжала распространяться.
Последняя по времени из таких попыток – реклама. Хоть она и ставит себе целью возбудить, разжечь желание, сама быть желанием, все ее методы, по сути, весьма близки к тем, которые были характерны для морали прошлого. Ибо она вырабатывает некое устрашающее, жестокое Сверх-я, куда более беспощадное, чем все когда‐либо существовавшие императивы; оно прилипает к человеку и непрестанно твердит ему: “Ты должен желать. Ты должен быть желанным. Ты должен участвовать в общей гонке, в борьбе за успех в жизни окружающего мира. Если ты остановишься – ты перестанешь существовать. Если отстанешь – ты погиб”. Начисто отрицая понятие вечности, определяя самое себя как процесс непрестанного обновления, реклама стремится к распылению субъекта, к превращению его в послушный призрак бесконечного становления. И это поверхностное, на уровне оболочки, участие в жизни мира призвано заменить в человеке жажду бытия.
Реклама не справляется со своей задачей, люди все чаще впадают в депрессию, общая растерянность чувствуется все сильнее;