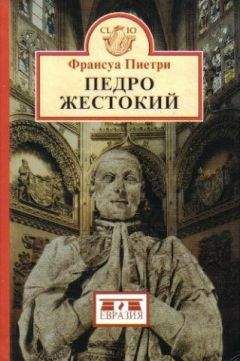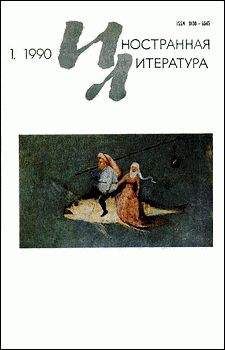— Так какие же вкусней?
Дин Лин пытается уйти от ответа, сменить тему, заговаривает о других достопримечательных особенностях китайской жизни — о театре, о балете, о цветах лотоса, но Эренбург неумолимо настойчив. Загнанная в угол китайская романистка видит, что выкрутиться не удастся, и цедит сквозь зубы:
— Лично я предпочитаю дворняг.
Фирменное блюдо ресторана, куда он ведет нас, — «утка по-пекински». Истинные гурманы едят лишь до хруста зажаренную корочку, а мясо оставляют. Илья таких изысков не признает: он ест все подряд и с большим аппетитом, и с лоснящихся от жира уст не слетает ни одного слова осуждения. Да и я демонстрирую безмерную широту вкусов, а проще говоря — беззастенчивую всеядность: мы едим уток и свинину, говядину и молочных козлят, так что отвергать собак, лошадей, змею — не более чем предрассудок.
Звоню в Рио нейрохирургу Пауло Нимейеру справиться об Алфредо Машадо. Обследования окончены, подтвержден ужасный диагноз — опухоль мозга. Случай трудный, — слышу я в трубке вслед за зловещей латынью, — случай безнадежный. Пауло считает, что операция ничего не даст, он лично не возьмется, но если больной и родственники желают, можно попробовать в Штатах…
Кто же не желает, кто не попробует все возможное и невозможное — от химиотерапии до черной магии, от операций до заклинаний на кандомбле — в борьбе за жизнь?! И Алфредо, которого под руку ведет Глория, улетает в Америку, но тамошние врачи подтверждают заключение бразильского коллеги — операция бессмысленна, надо попробовать новые методы: то-то и то-то, как знать… может быть… Начинаются полеты в Нью-Йорк и обратно в Рио. Алфредо не теряет бодрости и надежды, он неисправимый оптимист. Мы с Зелией звоним ему ежедневно, он сам снимает трубку, рассказывает о своей борьбе, а потом — новый анекдот, об угрозе, о надежде… Надежды с каждым днем все меньше.
Минуло больше года. Смерть Алфредо приблизилась вплотную. Я не мог работать, разучился смеяться, с трудом выдавливал из себя слова, сбежал из Бразилии, чтобы не видеть, как он умирает, мечусь по всему миру, из одного города в другой, из страны в страну — съезды, конференции, семинары, симпозиумы, все что угодно…
И отовсюду — из Парижа, Стамбула, Барселоны, Лиссабона и Рима — звонят друзья в тревоге, в скорби, в надежде на чудо… Чаще всех звонит мне сам Алфредо, и каждый раз я чувствую, что ему все трудней говорить, все длинней делаются паузы, и за сотни километров мне передаются его усталость, его тоска.
Я рассказываю ему, что задумал роман о приключениях молодого бразильца: военная диктатура, хиппи, «Мэйк лав нот уор!», сексуальная революция, промискуитет, наркотики, городская герилья и все прочие приметы бурных 60-х. Роман продолжит линию «Старых моряков» и «Кинкаса-Сгинь-Вода», где фантастика причудливо перемешивается с реальностью. Не знаю, как будет развиваться сюжет. Этого я никогда не знаю, покуда не начну писать, покуда не оживут герои. Но уже есть название романа и имя для главного героя — то и другое уже породило много толков. Роман будет назван по имени героя — «Красный Борис».
Алфредо, прирожденный издатель и редактор Божьей милостью, заявил, что покупает права. Четырнадцать месяцев отбиваясь от безжалостного наступления смерти, он торопил и подгонял меня, требовал роман, к которому я с какой-то минуты утратил всякий интерес. Однажды позвонил Сержио, его сын. Конец близок. Зелия позвонила Алфредо, сказала, что я дописываю «Бориса», скоро пришлю рукопись. Она глотает слезы и лжет — лжет гладко и убедительно, это она-то, вообще не умеющая лгать. У Алфредо еще хватает сил поинтересоваться деталями.
Через несколько дней получаем известие. Мы давно его ждем и все равно поверить не можем… Теперь в память об Алфредо я обязан выполнить обещание, написать похождения юного бразильца 60-х годов. Я сажусь за машинку, тень Алфредо, как соглядатай, неотступно следует за мной, стоит за спиной. Четырежды я начинал его, четырежды бросал на полуслове. Но когда-нибудь все же сочиню историю красного Бориса — она в большей степени принадлежит не мне, а Алфредо Машадо.
Когда я вижусь с Яшаром Кемалем,90 слышу его голос и смех, мне кажется, что ожил Назым Хикмет. Оба турка созданы из одного теста, из той же волшебной смеси, что служит материалом для стихов Назыма, для рассказов Кемаля — из нищеты, и героической борьбы, и мечты, и надежды.
…Мы были в небогатом музее Пьера Лоти91, француза, жившего в Турции, пленившегося ею, описавшего ее пейзажи, нравы и обычаи ее обитателей, а потом сидели за столиком кафе, откуда открывался вид на Стамбул: по улицам снуют толпы прохожих, и на каждом углу есть место, где можно остановиться, присесть, поболтать со знакомым — на упоительный город на берегу Босфора, на город, будто созданный для жизни, для любви. Я рассказываю Кемалю забавный случай, произошедший в 1952 году в СССР, когда там торжественно отмечали полувековой юбилей Хикмета.
Главное действо разворачивалось в Зале Чайковского — там устроили заседание, на котором присутствовал и сам поэт, живший под Москвой на даче. После вереницы речей и приветствий, вручения адресов и подарков поднялся на трибуну сам юбиляр, чтобы поблагодарить за теплые слова и прочесть свои стихи — по-турецки, естественно. Советские же поэты по очереди читали их в своих переводах на русском и на других языках народов СССР, отдавая таким образом дань уважения мастерству своего собрата и духу интернационализма, которым проникнуто его творчество. А мы с Зелией сидели в первом ряду.
Сопровождала нас переводчица Сатва, дочь старого бразильского коммуниста Отавио Брандана, приехавшего в СССР еще в 30-е. Сатва попала сюда еще совсем девочкой, здесь выросла, выучилась, вышла замуж, родила сына, поступила работать на радио, в ту редакцию, которая занималась вещанием на португалоязычные страны. Сатва — само очарование, образцовый советский человек, не утративший при этом ни национальных бразильских черт и свойств, ни любви к своей далекой родине. Спасибо следует сказать отцу, Отавио Брандану, который привил эту любовь четырем своим дочкам, читал стихи Кастро Алвеса, пел им самбы, кое-что, впрочем, меняя в текстах с тем, чтобы революционности стало побольше, а перцу с солью — поменьше, и даже отваживался, невзирая на отсутствие нужных ингредиентов, готовить настоящую фейжоаду92.
Покуда Назым декламировал по-турецки, Сатва рассказывала нам о том советском поэте, который в эту минуту дожидался своей очереди прочесть перевод. Когда же на трибуну поднялся Константин Симонов, отлично нам известный, сменила тему и поведала, как папа Отавио читал им книги Пьера Лоти: они приводили его в восхищение, а особенно, те страницы, где описывался Константинополь и вообще турецкая жизнь и действительность. Об этом чтении вслух Сатва хранит нежную память, в отрочестве мечтала она поглядеть на Босфор, и испытывает благодарность к Хикмету, посвятившему одно из своих стихотворений Пьеру Лоти.
Но вот Назым дочитал и уступает место у микрофона Симонову, а тот, прежде чем начать свой перевод, произносит несколько прочувствованных слов: рассказывает о том, с каким увлечением перелагал на русский язык пламенные строки своего собрата по лире и товарища по совместной борьбе. Сатва отлично знает свое дело и без запинки переводит речь Симонова. Приходит черед самим стихам. Сатва вслушивается в первые слова и вдруг ошеломленно зажимает себе рот:
— Ой, кажется, товарищ Хикмет не очень любит Пьера Лоти: он называет его грязным агентом империализма… говорит, что тот ничего не понял в Турции и в турецком народе… он считает его ренегатом…
Вытаращив глаза, она смотрит на нас в полнейшей растерянности и недоумении, не зная, что думать, куда отнести француза и как к нему отнестись: еще живо в памяти то, как восхищался им Отавио, но не будет ли это смертным грехом против учения марксизма-ленинизма?..
…Яшар Кемаль рассмеялся, а потом спросил, отчего бы мне не сделать бедную Сатву, угодившую в идеологические силки, героиней романа — чистая, искренняя, верная, мучимая неразрешимыми сомнениями. Персонаж, исполненный истинного драматизма.
— Впрочем, друг мой, — добавляет он, взяв меня за руку, — все мы — персонажи неведомо кем написанного романа…
Близится к концу наше пребывание в Китае. По приезде мы с Пабло Нерудой были очарованы призывом Мао «Пусть расцветают сто цветов!», но теперь ясно видим, что все обстоит ровно наоборот: гайки закручиваются, горизонты сужаются. Уже в Москве один важный чин из ЦК КПСС объяснил мне, что речь Мао была обыкновенной провокацией, противники господствующей идеологии обрадовались, зашевелились, решили вступить в дискуссию, высунули головы — тут-то их и отсекут. Неужели правда? Трудно поверить в подобное коварство.