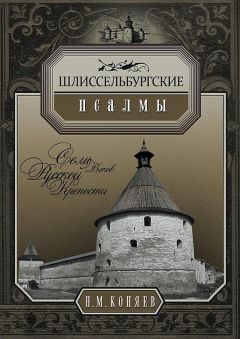Меж тем — каникулы!.. Прекрасное, звонкое слово, уже третье тысячелетие радующее даже усерднейшего зубрилу. Вдали от столицы, в Грузине, некогда печально знаменитой резиденции Аракчеева, гимназист — может быть, вследствие избавления от учебного гнета — снова начинает высказываться на „общие темы“.
Сам того не подозревая, просто готовясь к заданному учителем Стоюниным сочинению о проведенном лете, Чемезов, так опасающийся экзаменов и уроков истории, вдруг делается историком! Впечатления, записанные им, имеют для нас, жителей XX века, историческую ценность и открывают кое-какие неизвестные детали о характере и поступках зловещего „сочинителя“ военных поселений. Между прочим, как само собой разумеющееся, Чемезов обнаруживает при этом свое знакомство с запретными, преследуемыми сочинениями изгнанника Искандера (Герцена) — еще одно свидетельство популярности их в это время.
25 июля 1861 г.
...Теперь я хочу по возможности отовсюду собрать сведения о графе Аракчееве, чтобы подать Стоюнину или просто написать для себя два сочинения. Предметом первого будет рассмотрение характера Аракчеева, второго — описание важнейших фактов его жизни. Сколько я могу судить о нем по отзывам одного старика по имени Ивана Васильевича, жившего еще при нем, а потом и некоторых писателей, как, например, Искандера, Пушкина, Дашковой, то можно сказать, что он был нехороший человек.
Иван мне рассказывал, как Алексей Андреевич наказал его во время холеры, погубившей множество людей. Во времена графа на месте нынешнего корпуса был лазарет, а на месте лазарета конюшни. Каждый день умирало по нескольку человек, которые до погребения ставились в лазаретный склеп, освещаемый чуть брезжившим светом лампады. Таким образом накопилось однажды двенадцать покойников. В то время Иван в чем-то провинился. Аракчеев рассердился и засадил его на целую ночь к покойникам да еще велел нумеровать кровати у голов мертвецов. Можете судить, каково было бедному Ивану Васильевичу провести такую приятную ночь, а он еще был любимцем графа.
По этому можно судить, как он наказывал других, которых не любил. После этого рассказа старик прибавил: „Крутенек был батюшка Алексей Андреевич“.
Искандер говорит, что Аракчеев был „самое гнусное лицо, выплывшее после Петра I на вершинах русского правительства“.
Пушкин отзывается о нем, как „о холопе венчанного солдата“. Княгиня Дашкова в своих записках, запрещенных в России{61}, называет его „самым преданным исполнителем тирании Павла“.
Когда во время таганрогской поездки Александра здесь была убита поваром любовница Аракчеева, солдатка, его крестьянка Анастасья, он тотчас. бросил все государственные дела, прискакал сюда и, не находя виновного, тотчас написал об этом новгородскому губернатору записку, которая еще до сих пор хранится в золотом ковчеге в тамошнем правлении. В этом письме граф просил как можно скорее разыскать преступника. С тех пор пошли ужаснейшие пытки. Достаточно было только одного неосторожного шага, одного пустого подозрения, чтобы подвергнуться ужаснейшим мучениям. Наконец добрались-таки до виновного, и он был, конечно, приговорен к кнуту. Но в это время взошел на престол Николай, и по его приказу все производители суда были сами отданы под суд и сосланы в Сибирь. Вот каков был Аракчеев!
Когда он впервые вошел в связь с Настасьей, у нее был жив ее муж солдат. Желая от него избавиться, этот изверг велел утопить его, и вот однажды в темную ночь, когда ничего не подозревавший солдат спокойно переезжал на пароме через Волхов, на самой ее середине он был брошен в реку и погиб в волнах ее.
До сих пор еще на берегу Волхова, противоположном Грузину, существует одноэтажный дом, выкрашенный желтой краской. В нем всегда можно было видеть чаны с горячей водой, в которой прели гибкие прутья, предназначенные для наказания виноватых, и не проходило одного дня, чтобы не было экзекуции. А за что их драли? За то, что проходящие барки иногда касались аракчеевских яликов, стоявших у Грузина.
Анастасию погребли в соборе здешнем во имя Андрея Первозванного, по приказанию Аракчеева не закрывали склеп, где был поставлен ее гроб. В продолжение целого года каждый день Аракчеев ходил плакать на ее гроб и по смерти был похоронен рядом с нею.
На крыше его дворца был устроен бельведер, в котором стояла зрительная трубка. Деревья в саду подстригались так, что граф мог обозревать все поля, посредством трубки наблюдать, как кто работает. В субботу каждой недели он сзывал крестьян, и хорошо работавших угощал рюмкой водки, а ленившихся розгами.
12 августа. Воскресенье
Не забыть мне одной ночи с воскресенья на понедельник перед тем, как надо было ехать. Ночь была превосходная. Темно-синее, почти черное небо было испещрено звездочками различной величины, ярко блестевшими. Красавица луна щедро бросала свои зелено-серебряные лучи на все предметы. Я с Машей сидел на колоннаде перед собором. В саду было совершенно темно и тихо. Некоторые только из деревьев угрюмо покачивались. Над болотом носился густой туман, серебристый от луны. И среди всей этой темноты, как огромное привидение, подымался от земли белый каменный дворец, и на нем ярко блестела надпись Аракчеева: „Без лести предан“. Все здание было облито лунным светом, резко отделявшим его от окружавших его предметов. Памятник перед дворцом был также превосходен. На пьедестале из гранита были поставлены Вера, Надежда и Любовь, возлагавшие блестящий золотой венец на главу Александра. У подножия в виде Русского воина, преклонившего одно колено, был изображен сам Аракчеев. С другой стороны в подобном же положении какая-то женщина, должно быть, Настасья. Вся группа была вылита из темной бронзы и потому неярко освещена. Зато венец, как золотой, блестел при луне…
Каникулы в те времена кончались не 31-го, а 15 августа; 16-го уже учиться! Однако воспоминания о Грузине не оставляют Чемезова и по возвращении домой; видимо, сам воздух того места располагал к рискованным мыслям:
„Когда дяденька Петр Николаевич был в Грузине, он нам сообщил следующие стихи Рылеева:
В России чтут
Царя и кнут…
В ней царь с кнутом,
Как поп с крестом.
Стоит народ,
Разиня рот.
Велят: кричи ура,
Кричит „ура!“
„Нас бить пора!“
И бьют ослов
Без дальних слов.
Это совершенно справедливо“.
Пусть Чемезов и его родственники принимают за рылеевские стихи несколько искаженный текст, сочиненный другим поэтом, Александром Полежаевым (эти же строки многие, в том числе Н. В. Гоголь, приписывали Пушкину), но как много гимназист знает такого, чего ему не велели слушать директор Лемониус, а также попечитель Петербургского округа, а также министр народного просвещения и, наконец, государь. И все это идет с каникул прямо в 7-й класс.
В те самые дни и месяцы, когда происходят важнейшие события в потаенной, не для газет, российской истории и культуре, когда бурлят студенческие беспорядки, и Володе, хоть он еще и не студент, так интересно, что он почти забрасывает уроки, опять превращается в „летописца“ — и вдруг, откуда ни возьмись, выпускныеэкзамены — вот как внезапно, прозаически ушли в прошлое школьные годы. Лето 1862-го… Окончивший 3-ю петербургскую гимназию поднимает голову от тетрадей, книг, денежных расчетов.
21 июня. Четверг
…Сегодня я читал в „Сыне отечества“, что приговорено расстрелять двух офицеров: Арнгольдта, Сливицкого и унтер-офицера Ростковского, и за что? За то, что они невежливо отзывались о священной особе императора и порицали действия русского правительства в Польше{62}.
Это, право, смешно. Наше правительство хочет всем вбить в голову насильно, что оно поступает прекрасно во всех отношениях, и запретить порицать его действия. Это довольно странно. Неужели наше правительство и колебаться не может? Не понимаю, право, что оно думает сделать подобными поступками. Я думаю, что оно не потушит искру, а раздует ее в пламя. И смирные-то до сих пор люди, наконец, ожесточатся, тогда уже будет плохо. Я вон нигде никакого участия не принимал и принимать не буду; да едва ли у меня хватит настолько воли, чтобы обуздывать свои стремления. Сердце разрывается на части, когда слышишь об несчастной участи людей, конечно, передовых, потому что они решились собою жертвовать для таких глупых людей, которые называются русскими. Мало ли пострадало у нас из-за этой идеи?
Незабвенными останутся имена Пестель, Рылеева-Бестужев, Муравьев, Каховский.