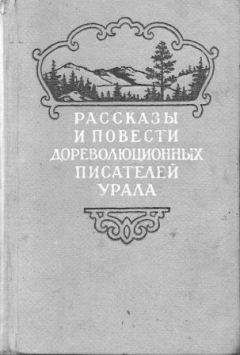Ненормальность, уродливость, дикость войны — и нормальность, обыденность человека, который воюет; простота и застенчивость истинного героизма; поразительная точность деталей, цветов, звуков и запахов; описание ратного дела, как извечного, древнего дела России; наконец, простота отношения к смерти, какую Толстой и Твардовский видят в солдатах, — все это роднит обе книги. Послушайте: со страниц “Родины и чужбины” идет гул как бы толстовской прозы, простой и могучей.
“На поле — в снопах и на корню — перестоявшая, выболевшая, серая рожь. Стоит и “течет”. Колючая проволока нами или немцами была натянута по озими. Рожь и под ней выросла, созрела, стоит вровень со всем полем, и в ее единообразной, все еще стройной густоте с жесткой отчетливостью выделяется эта чуждая, металлическая ткань, наведенная в четыре ряда поперек поля”.
(“По сторонам дороги”)
“...сколько-то верст пешком с колонной пополнения. Шлепанье, кваканье, всплески и бурчанье грязи под мелкими прогибающимися жердочками настила. Ботинки, обмотки, полы кургузых шинелей, подоткнутые под ремень, заляпанные серым, подзолистым киселем, и говор грязи под ногами. Кажется, что по такой грязи можно идти только в завершение большого, исполненного с отрадой труда, в чаянии законного, обязательного отдыха, обогрева, просушки и иных великих радостей. Но люди идут по этой дороге туда, где им будет еще труднее, где даже выпрямиться в рост негде будет, и та же грязь, натоптанная в траншеях, а холода еще больше, и сверх того, в придачу ко всему — мука того тоскливого ожидания, oт которого в первые дни на передовой однообразно вытягиваются и сереют лица у солдат”.
(“С попутным транспортом”)
И что всего поразительней, герои военных очерков Твардовского — те реальные люди, которых писатель встречал на дорогах войны, — заставляют вспомнить некоторых персонажей “Войны и мира”.
Вот комбат Красников, герой очерка под таким же названием. “...в его добрых, серых, несколько воспаленных глазах и виноватой улыбке на немолодом уже и несвежем лице было... доверительное выражение...” Красников имел судимость и был разжалован в рядовые за слабость, столь обыкновенную в нашем отечестве. “ — Суть дела — вот она, — улыбнулся он, с робкой шуткой приподняв запотевший от холодной водки стаканчик. — Вот она, суть”. Таков он в быту, за столом и в общении со старшими офицерами: человек виноватый до робости, жалкий, застенчивый. А вот он, комбат Красников, на поле боя:
“...мне рассказывала о нем девушка из санитарной роты полка, видевшая Красникова в одном тяжелом бою.
— Ползу среди трупов, среди раненых — от одного к другому — и вдруг вижу, ползет Красников, все лицо в крови, улыбается, перевязываться отказался: и так, мол, доберусь. И еще меня подхваливает: молодец, дочка, цены тебе нет, умница моя. Это он, конечно, для бодрости духа мне сказал, — огонь действительно был очень сильный”.
Разве не вспоминается толстовский Тушин, робко-застенчивый перед начальством и бесстрашный в бою капитан?
У Твардовского есть Дедюнов, “хитрый курский мужик”. Он, солдат злобноватый, расчетливый, цепкий, решает проситься из комендантского взвода на передовую.
“ — Из нашей деревни один тут есть. Он уже ордер получил, — говорит, зачем-то искажая слово “орден”. — А я приеду домой — что я, хуже его? Нет. А я только скажу: почему война длинная? Вот почему. Кабы сказали так: “Убей пятъ фрицев — и домой, твоя война кончилась”, — и каждый бы выполнил норму, и немцев бы не хватило на нас. A то я убью сто, а другой — ни одного. И всем одна честь — война. A я б десять взялся убить. Меня давеча комиссар спрашивает: “Боишься фрица?” — “Кто ж ее знает, говорю, может, приведется так, что и перепугаюсь”. A так большой трусости во мне нет. Нету.
Узнал, что командование дает за поимку “языка” медаль и десять суток отпуска.
— Стоит взяться.
И вслух рассуждает о технической стороне дела:
— За руки, за руки надо хватать... Ничего нет страшного, если с умом делать”.
Так и хочется назвать этого хитрого, злого бойца не Федором Дедюновым, а Тихоном Щербатым — вспомнив толстовского мужика-партизана.
У Твардовского — тетя Зоя, “умная, веселая, продувная и, в сущности, добрая баба подмосковной провинции”. Она, угостив офицеров, “...быстренько крестилась и, закатив глаза, поводила головой с видом окончательной решимости.
— Нет, теперь уж, сохрани Господь милостивый, начнет опять подходить немец, а уж тут не останусь. Хоть и жалко всех этих хурбурушек, а нет, не останусь. Корову на веревочку, дом с четырех сторон подпалю, постою, пока не проуглится весь — и пошла!”
Как тут не вспомнить ту московскую барыню, которая, как уверен Толстой, и была истинной победительницей Наполеона, которая, держа в голове лишь одно — что она Бонапарту не слуга! — тронулась прочь из Москвы?
Что это за удивительная перекличка? Заслуга ли это Толстого, который с такою невиданной силой творил своих персонажей, что они потом, спустя век, появились в реальности? Или заслуга Твардовского, который увидел и записал то самое главное о войне, о России и русских, что осознал и почувствовал еще Лев Толстой? Или это, быть может, заслуга самой pyccкой жизни, которая снова и снова рождает из своих тайных недр тех caмыx — простых и геройских — людей?
Но вот чего в Толстом нет — и в чем, стало быть, военная проза Твардовского дополнила прозу Толстого, — того юмора, который не изменяет автору и его героям в самые аховые минуты.
“Бой шел на огородах уже сожженной деревни... Жители в ямах. Обстрел. С десяток наших бойцов отбивали контратаки, уже многие ранены, положение почти безнадежное. Бабы и дети в голос ревут, прощаясь с жизнью. И молоденький лейтенант, весь в поту, в саже и в крови, без пилотки, то и дело повторял с предупредительностью человека, который отвечает за наведение порядка:
— Минуточку, мамаша, сейчас освободим, одну минуточку, сейчас будет полный порядок. Минуточку...”
(“На родных пепелищах”)
“В горящем, шипящем и осыпаемом с неба снегом с дождем городе без единой души жителей, в пустом ресторане, при трех зажженных свечах, сидит мокрый и заметно хмельной солдатик, не то чуваш, не то удмурт, один как перст.
— Что тут делаешь?
— В тристоране сижу. Три года воевал, два раза ранен был, четыре года буду в тристоране сидеть.
— Что ж тут сидеть? Нет ничего ни выпить, ни закусить.
— Не надо! Выпил уже там, — кивок в сторону окраины города-фронта. — Хочу сидеть. Три года воевал.
— Попадет, брат, тебе. Шел бы, догонял своих.
— А это что? — заворачивает рукав шинели — там грязная бинтовка повыше запястья. — Я в госпиталь направлен. А я в госпиталь не хочу. Хочу сидеть в тристоране. — Удар кулаком здоровой руки по стойке, одна свеча падает. — Четыре года буду сидеть!”
(“В самой Германии”)
Читая прозу Твардовского, понимаешь: реализм бездонен и неисчерпаем. Это единственный путь, который нельзя пройти до конца, тупика: ибо то, что открыто в реальность, то, что живет и питается ею, — движется как бы навстречу Творцу, сотворившему эту реальность. И Бог, и творение неисчерпаемы; и человек, и лежащий вокруг него мир бесконечны. Источники, что наполняют бездонные эти колодцы, имеют начало свое т а м, за миром, в недостижимой для смертного глубине бытия. По сути, истинный реализм основан на идеальных, нетленных началах. Красота, добро, истина — вот действительные реалии бытия, вот на что опирается реализм; a yж эти опоры рухнут только тогда, когда кончится мир.
Вспоминая Твардовского, не обойти одной каверзной темы. Если свести вопрос к его откровенной и грубой сути, он прозвучит так: с кем Твардовский? С “почвенниками” — или “демократами”? “Наш” он — или “не наш”?
То, что на этот вопрос нет ответа определенного, отчасти и служит причиной того, что ныне Твардовский как будто забыт. Все было бы проще, если бы демократы могли числить его “демократом” — и уж тогда его беспрерывно бы славили с телеэкранов или газетных страниц (как, cкажем, славят Галича, Окуджаву, Высоцкого). Или, если бы патриоты считали его без оговорок своим, как считают своими Есенина, Клюева, Павла Васильева, — то такая “партийная” определенность вывела бы его из теперешнего полузабытья. Ныне Твардовский “ничей”; и эта ничейность поэта негласно засчитывается ему в вину — причем обеими сторонами.
Досадно, конечно, что, даже усопший, поэт не избежал вот такого партийного дележа — и, похоже, и “справа”, и “слева” признан “не вполне годным”. Куда бы пристойнее и достойнее было разбирать лишь его творчество; но — куда уж тут денешься? — злоба жизни довлеет над нами, и приходится отвечать на ее, жизни, вопросы.
Так, в самом-то деле, кем был Твардовский? Демократом? Конечно. Кто, как не он, возглавлял “Новый мир”, главный печатный орган хрущевской оттепели, кто, как не он, был крупнейшим авторитетом и, так сказать, духовным отцом либералов-шестидесятников, кто всегда был в демократической оппозиции власти, кто, как не Твардовский, с таким чувством личной вины каялся после двадцатого съезда? Он был не просто за демократов: он был, можно сказать, знаменем демократии.