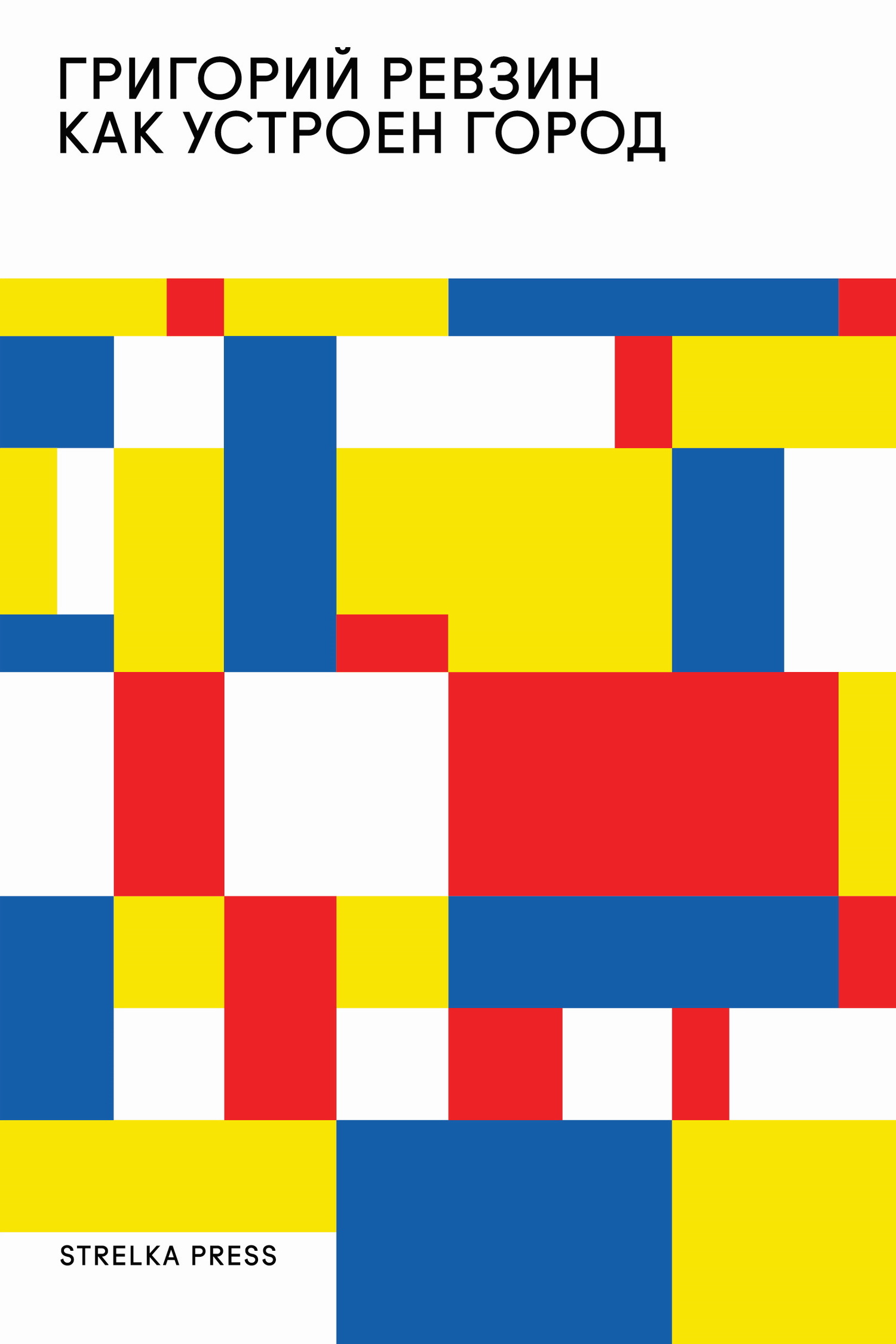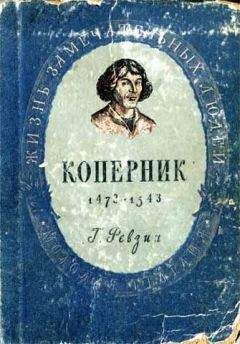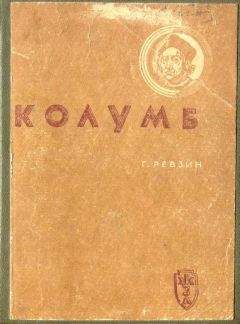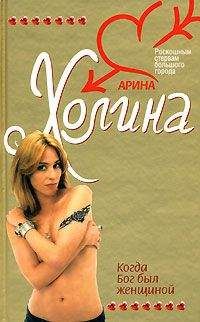нельзя не заметить, что это очень не-торговый взгляд на дело.
Мне кажется, что идея самотождественности определяющих уровней города покоится на неосознаваемом мифе о творце и творении. Город понимается как продолжение, порождение человека или его возвышенных субститутов – высшей силы, светской власти, духа народа, нации, страны. Допущение возможности обмена здесь равносильно подмене этой духовной инстанции, что выглядит как-то мало допустимо. Власть лепит идеальное состояние из наличного положения дел. Жрецы исходят из того, что этот идеал принципиально недостижим, но считают, что на него нужно постоянно указывать, чтобы к нему приблизиться. И то и другое обеспечивает неизменность идеала. Но у торговцев принципиально иная стратегия достижения идеального состояния. Идеал есть – у кого-то. Он уже создан. Можно просто его купить.
Это предполагает совершенно иную парадигму отношений человека и творения. Когда вы покупаете себе часы IWC, они не становятся вашими в том смысле, что это больше не часы IWC, а ваши. Нет, именно то, что они часы IWC, является частью вашего приобретенного идеала. До известной степени так же дом в итальянском, английском, французском, современном стиле не теряет своей принадлежности из-за того, что они построены в Москве местным архитектором. Нет, наоборот, именно их «зарубежность» является частью их ценности, их затем так и строили. Они не хотят произрасти из родной почвы как растение-эндемик. Они хотят оставаться пересаженными.
Идеальным стилем торговцев является эклектика или постмодернизм. Глубокое неприятие этих художественных систем со стороны поклонников органического, «подлинного» творчества – ясная демонстрация того, что перед нами принципиально иной тип формообразования. И этот тип формообразования может распространяться и на каркас (знаменитые цитатные трехлучия абсолютизма – Петербург, Версаль, Рим), и тем более на ткань города.
Я говорил о стилевых заимствованиях; среда – это, разумеется, не стиль, это феномен другого ряда, однако с ее импортом проблем тоже не возникает. Благоустройство Москвы времени мэра Собянина – это импорт разнообразных сред западноевропейских городов от Барселоны до Нью‑Йорка (с импортом и оригинальных мастеров, которые производили). Вместо органической формы мы получаем цитату.
Но это не значит, что подобный импорт делает город менее ценным, чем если бы он органически развивался из потаенных глубин национального гения. Нет. В городе звучит множество голосов. Это и создает разнообразие контекстов, сред, мест. И это тот навык, то цивилизационное умение, которое привносит в город торговля.
Тут возникает очевидное противоречие. Среда мыслится как феномен органический, аналог, напомню, экосистемы, и горожанин сращен с ней, как тушканчик со степью. Но при этом мы имеем дело с очевидным образом неорганичным явлением, это «чужая среда», импортированный образ, с которым не нужно сливаться, ибо его чуждость – часть его ценности. Это все равно как если бы тушканчики завели у себя в степи кусок тундры и бегали туда отдохнуть в прохладе, осознавая, что это не их место, что оно им не соприродно.
В средовой теории города принципиальной является тема городского театра, когда улицы, площади и здания понимаются как декорация, а горожане – как актеры, играющие свои средовые роли. С моей точки зрения, город как театр – это не только урбанистическое изобретение, но более конкретно: изобретение обмена, торговая ценность. Торговля не только порождает разнообразные «чужие» среды. Она порождает соприродных им неорганичных горожан, людей со множественной структурой личности, способных эти среды использовать. В театре актер не играет себя самого, его личность не совпадает с ролью. Точно так же и горожанин в этой парадигме никогда не совпадает с самим собой, но проживает множество ролей.
Я думаю, что поклонников идей среды как органического порождения человека все, сказанное выше, должно раздражать. Мы проигрываем здесь и в творческой перспективе, когда творение перестает быть эманацией внутреннего «я» автора, и в перспективе глубины восприятия, когда зритель-слушатель-житель полностью растворяется в произведении или в среде. Человек, который все время оказывается в разных контекстах, говорит, используя «чужое слово», играет разные роли, явно проигрывает целостной личности, выражающейся или растворяющейся в произведении, как осенний ястреб в небесах. Но что же он выигрывает?
Он выигрывает свободу выбора. И именно это и делает его горожанином.
И для власти, и для жрецов, и даже для рабочих важной идеей является тождество самому себе. В самых разных системах воспитания, в особенности в Новое время, в эпоху царствования идеи прогресса, главной задачей воспитания является перевод ребенка из неопределенного в определенное состояние. Жизнь представлялась забегом на дистанцию кем-то стать – кто быстрее станет столяром, музыкантом, математиком, художником. На этом основан феномен вундеркиндства, который едко высмеивал Ролан Барт.
Мужчине к моменту достижения гражданского возраста требовалось получить профессию, женщине – родить ребенка. Сегодня это непопулярная идея, если не сказать – чудовищный архаизм. Наоборот, если женщина сорока лет, менеджер с MBA по экономике, решила стать художником, поступила на 1‑й курс Академии художеств, не замужем и не собирается, детей нет и т. д. – это как раз и есть современный человек. Идея, что надо кем-то стать, сменилась на то, чтобы никем не становиться окончательно. Время – валюта твоей жизни, и лучшая стратегия – это ее не тратить, чтобы сохранять возможность быть кем угодно.
Город начинает цениться за то, что он предоставляет тебе способы оставаться в состоянии выбора. Утром ты теннисист, днем – юрист, ранним вечером – монгольский мистик, вечером – гитарист, по субботам учишься на летчика. В деревне так не поживешь.
Вообще свобода – это сложная вещь, ей надо учиться, там масса подводных камней и парадоксов. Но элементарный уровень свободы, тот, что воспитывается сам собой, просто как жизненный навык, – это свобода выбирать. Свобода как познанная необходимость – это у жрецов и власти. Город торговцев – это такой, в котором ты выбираешь, кем стать, кем быть и во что превратиться потом.
С этой точки зрения смерть, кстати, – это просто покупка небытия, а кладбище – еще один вид среды, по-своему привлекательный в смысле обмена.
Улица, площадь, переулок, двор, парк – это существовало в городах более или менее всегда, с Иерихона и Ура. Бульвар – изобретение новоевропейское, его не было ни в античности, ни в Средние века. Не то чтобы город был такой вещью, в строении которой трудно что-нибудь изобрести – возьмите хоть микрорайоны с панельным жильем, – но трудно изобрести что-нибудь новое так, чтобы оно прижилось. Москву легко представить себе без микрорайонов, но трудно – без бульваров. Появление в городе нового места – это улика, она заставляет подозревать, что в городе появился какой-то новый человек,