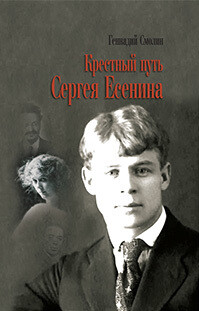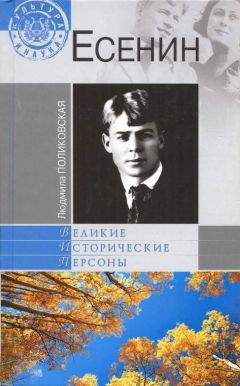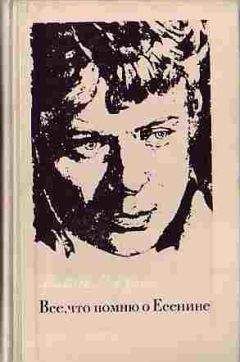Васильев как-то сразу осёкся, его лицо перекосилось от ярости.
– Ах, вы так!..
– Я так.
Он несколько секунд смотрел Есенину в глаза.
– Ну, мы вас заставим сознаться.
– Маловероятно.
На лице Васильева была видна борьба. Он сбился со своего европейского стиля и почему-то не рискнул тут же перейти к обычному, чекистскому. Толи ему не было приказано, толи он побаивался чего-то или кого-то. За два дня тюремной голодовки Есенин не очень уж ослаб физически, да и терять ему было нечего.
– Вот видите, – раздраженно проговорил Васильев. – Можете идти в камеру.
На другой же день Есенина снова вызвали на допрос. На этот раз Васильев был не один. Вместе с ним в комнатке толкались ещё какие-то дознаватели в количестве трёх человек, видимо, чином значительно повыше. Один – в чекистской форме с двумя «ромбами» в петлицах. Дело принимало иной оборот, играли уже всерьёз.
Васильев держался пассивно и оставался в тени. Допрашивали те трое. Около пяти часов «выстреливались» бесконечные вопросы о всех знакомых поэта, снова выплывал уродливый, нелепый остов надуманных версий. Есенина в шпионаже уже не обвиняли. Но граждане вокруг поэта (перечислялись Ф.И.О) и прочие занимались шпионажем, и он об этом не мог не знать. О шпионаже лично Есенина тоже почти не заикались, весь упор делался на нескольких его заграничных знакомых.
Требовалось, чтобы поэт подписал показания, их изобличающие. Для усиления нажима перечислялись родные Есенина, его близкие, которым от его молчания будет только хуже. Делались намёки на то, что его показания весьма существенны «с международной точки зрения», что, ввиду дипломатического характера этого дела, имя Есенина нигде не будет названо. Потом озвучивались намёки – и весьма прозрачные – на расстрел Есенина в случае его отказа сотрудничать со следствием.
Часы проходили незаметно, и Есенин замечал то, что допрос превращается в конвейер. Следователи то выходили, то приходили. Ему трудно было разобрать или запомнить их лица. Они сидели на ярко освещённом месте, в креслах, у письменного стола. Одинокой фигурой за столом возвышался Васильев, остальные были в тени – сидели у стены кабинета и на кожаном диване.
Соврать что-то или сболтнуть лишнее он не имел права, а потому излагал правду. Но этот многочасовой допрос, это огромное нервное напряжение временами уже заволакивали сознание, сковывали мысли апатией, парализовали волю безразличием.
– Не понимаю вашего упрямства, – говорил человек с двумя «ромбами». – Вас в злонамеренном шпионаже мы не обвиняем. Но какой вам смысл топить себя, выгораживая других. Вас они так не выгораживают.
Есенин лихорадочно думал: «Что значит глагол „не выгораживают”, и ещё в настоящем времени? Кто эти люди? И уже арестованы? И действительно „не выгораживают” меня? Или просто это новый трюк следователей?»
Со всем доступным Есенину спокойствием и со всей доступной ему твёрдостью он проговорил:
– Я поэт, журналист и, следовательно, достаточно опытный в светских делах человек. Я не мальчик и не трус. Я не питаю никаких иллюзий относительно своей собственной судьбы и судьбы моих близких. Я ни на одну минуту не верю ни вашим обещаниям, ни увещеваниям ГПУ. Всё это ваше «произведение» я считаю форменным вздором и убеждён в том, что таким же вздором считают его и мои следователи: ни один мало-мальски здравомыслящий человек ничем иным и считать его не может. И ввиду всего этого я никаких показаний не только подписывать, но и вообще давать не буду.
– То есть как это вы не будете?! – вскочил один из следователей и неожиданно замолк.
Человек с двумя «ромбами» медленно подошёл к столу и сказал:
– Ну что ж, Сергей Александрович. Вы сами подписали себе приговор… И не только себе. Мы хотели дать вам возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дело. Можете идти.
Поэт встал и направился к двери, у которой стоял часовой.
– Если надумаете, – бросил ему вдогонку человек с двумя «ромбами», – сообщите вашему следователю. Если не будет уже поздно…
Но когда Есенин вернулся в камеру, то рухнул на кровать – он был совсем без сил. У него будто вынули что-то самое ценное в жизни, а голову наполнили беспросветной тьмой и отчаянием. Спас ли он своим упрямством кого-нибудь в реальности? Не отдал ли дорогих ему людей на расправу? Есенин догадывался, какие аресты могли быть произведены в Москве, Ленинграде, и какие методы допросов были применены, и какие «произведения» создаются или уже созданы в недрах ГПУ…
Откуда-то со дна сознания подымалось что-то тёмное, паническое, и за всем этим он воочию увидел свою кудрявую голову, развороченную выстрелом из револьвера в упор.
Есенин забрался с головой под одеяло, чтобы ничего не видеть, чтобы не могли подсмотреть в «глазок» и не подстерегли его в минуты упадка.
Наступили часы безмолвного ожидания. Где-то там, в гигантских и беспощадных зубцах маховиков чекистской машины, варилось безымянное есенинское «Дело». Потом подцепит его какая-нибудь одна, особенная, шестерёнка, – и вот придут и Есенину скажут: «Собирайте вещи!»…
Они придут не вдвоём и даже не втроём. Они придут ночью целым расстрельным взводом. У них будут револьверы в руках, и эти револьверы будут дрожать больше, чем дрожал кольт в руках «инженера из МПС», «железнодорожника» Васильева в вагоне поезда, шедшего из Москвы в Ленинград.
Снова бесконечная бессонная ночь. Тускло из центра потолка подмигивала электрическая лампочка. Мёртвая тишина одиночки лишь изредка прерывалась чьими-то ночными криками. Полная отрезанность от всего мира. Было ощущение человека, похороненного заживо.
Так прошло четыре дня.
27 декабря, воскресенье, вечер.
Поэт, усевшись на кушетку, тихонько запел:
Все мы, все мы в этом мире тленны…
Тихо льётся с клёнов листьев медь.
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
Есенин пел, грустно улыбаясь.
Но дверь лязгнула открываемыми запорами: в камеру вбежали два надзирателя. Один заорал:
– Встать! – и оба разом навалились на Есенина, усадили на стул.
В камеру вошёл Блюмкин, за ним Васильев и тот высокий чин с двумя «ромбами».
Дверь в камеру закрыли.
Поэт увидел Яшку Блюмкина с револьвером в руке – и сердце его зашлось в смертельной тоске.
– У кого телеграмма? – заорал тот в припадке неожиданной ненависти. – Адрес давай, сво-олочь!
– У кого надо… Не видать вам телеграммы! – сквозь зубы выдавил Есенин.
– Давай, приступай! – крикнул Блюмкин надзирателям и, цинично ухмыльнувшись, добавил: – Ну что? «До свиданья, друг мой, до свиданья!..».
Надзиратели накинули на шею поэта удавку, стали душить… Есенин захрипел, правой рукой вцепился в верёвку.
Подскочил Блюмкин и наганом со всего маху ударил рукояткой в лицо!
Ещё! Ещё! Даже в раж вошёл…
Один бьёт, двое держат! Глаз вытек. Переносица проломлена. Обмяк поэт, затих.
Высокий чин с двумя «ромбами» подал голос:
– Перестарался ты, Яша… Придётся по другому варианту лепить историю.
В камеру вошли ещё двое, среди них – Эрлих.
– Где Цкирия [15]?
– Я здесь.
– Срочно оборудуй 5-й номер. Меблируй, перетаскайте его вещи. Всё делать под суицид. Понятно?
– Так точно! – глухо отрапортовал кто-то.
– Исполняйте!
Офицер отозвал Эрлиха, минут пять внушал ему какие-то директивы, тот молча кивал.
Постфактум II
Утро, 28 декабря 1925 года.
Гостиница «Англетер», номер 5.
Стоит, наверное, внимательно прочесть следующий «Акт осмотра переписки», найденный в чёрном кожаном чемодане, оставшемся после смерти Есенина. Присутствовали при его составлении Зинаида Николаевна Мейерхольд-Райх, секретарь суда М. Е. Константинов, член коллегии защитников А. Н. Мещеряков.