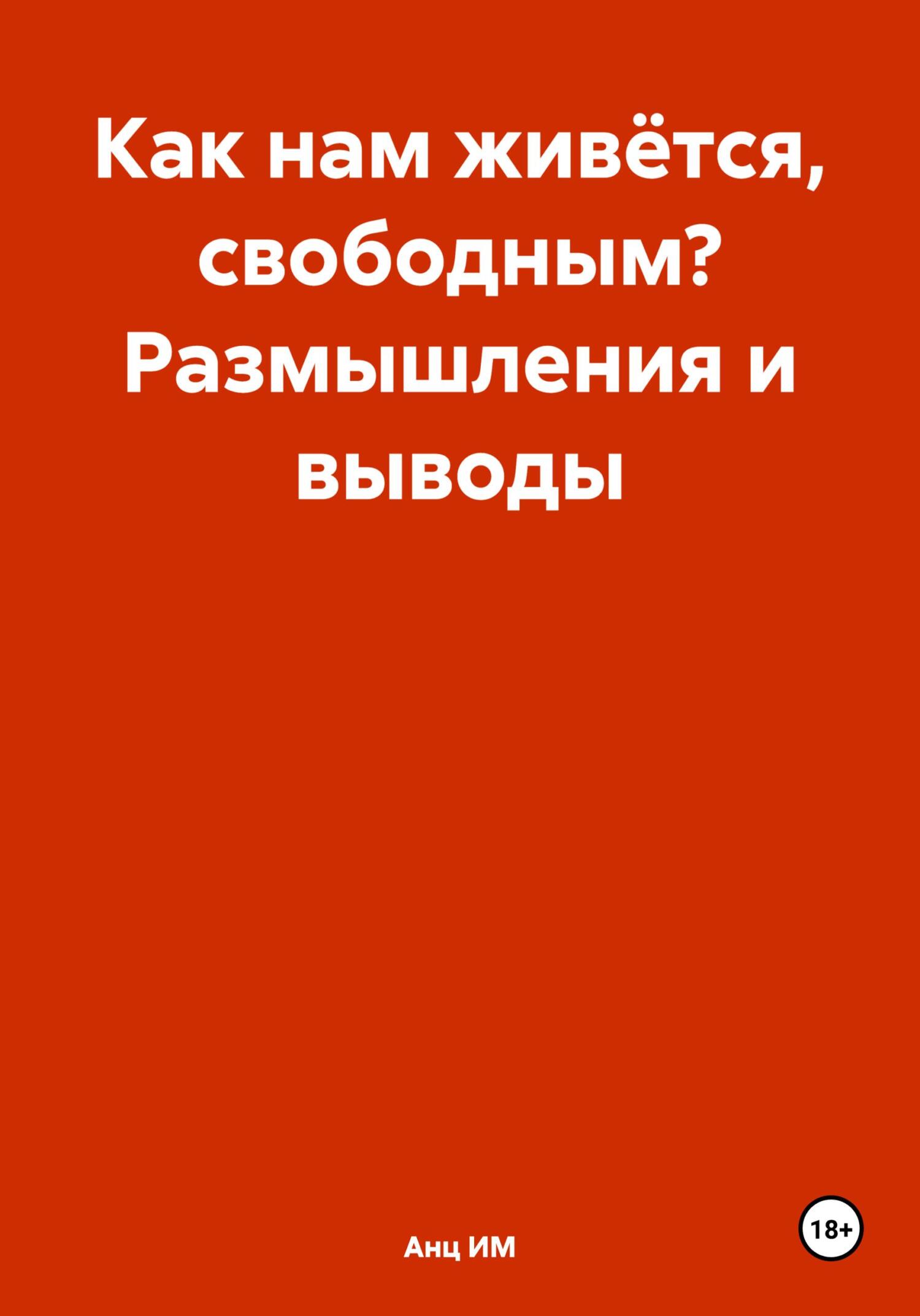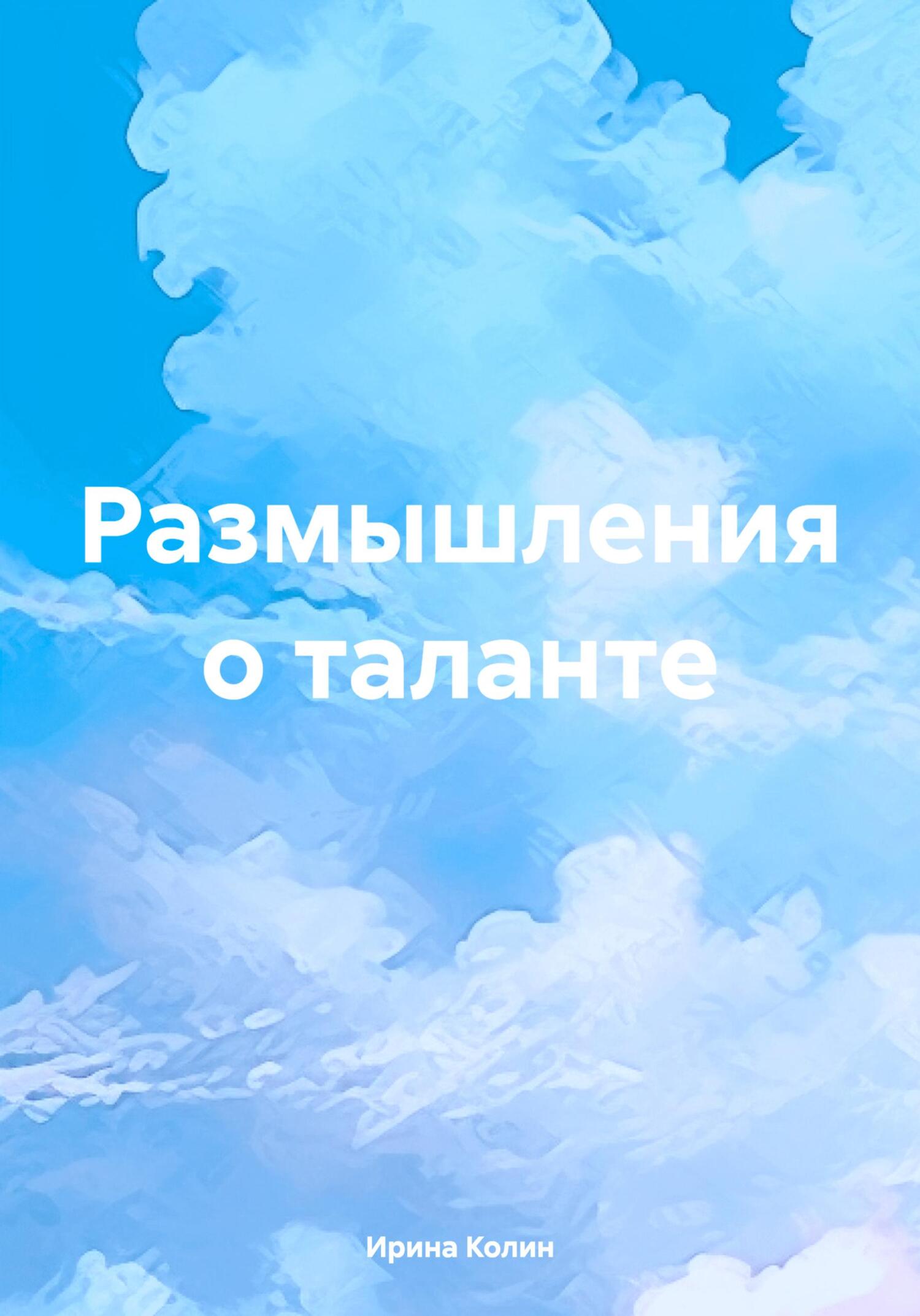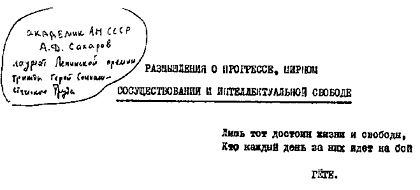одобрение «массового», что-нибудь малопонятное, вроде «Чёрного квадрата» Малевича; или наоборот — проявляется повышенный интерес к медитациям.
Не принимающие нормативов такой опустошающей морали «вытесняются» или беспардонно третируются…
Уводя общества от устоенных ценностей (освобождаясь от привычного, традиций и проч.), подобные явления правовой запутанности способны прогрессировать на очень больших скоростях. Пусть никогда и никого они не приводят в объятия абсолютного, но дойти с ними до абсурда — вполне вероятно. И праву (публичному) тут ничего не остаётся, кроме как с опозданием тащиться за уходящими далеко вперёд событиями.
Такое наблюдается, в частности, в системе оценок преступного.
Взять хотя бы уголовно-процессуальный кодекс РФ. Уже при его вступлении в силу в начале текущего тысячелетия он представлял из себя малопригодный инструмент обеспечения справедливости, к чему он, собственно, был призван как правовой акт гуманистической пенитенциарии.
В нём освобождаемое, свободное, истолкованное конституцией, обязывало законодателя постоянно помнить об их непреложности; и, значит, нельзя было обойтись без «приукрашенного» общего исходного правового момента, в котором должно предусматриваться «освобождение» «до конца».
В российском обществе к тому времени образовались целые группы или слои людей разных возрастов, опустившихся, спиты́х, не желающих и подчас уже и не умеющих работать или учиться. Их выбрасывало из рамок обычной среды, и для них такое противоправное занятие, как воровство, становилось чуть ли не единственным способом добыть средства для их дальнейшего бесцельного существования «только в данный момент».
Названный кодекс учитывал этот ход событий, и в нём существовала норма юридической ответственности за кражу.
Между тем уже вскоре правотворцы, словно очнувшись, внесли в закон поправку, согласно которой нормативный уровень ответственности за украденное был понижен до одной пятой от прежнего, но с оговоркой, что как таковая судебная ответственность должна была теперь наступать за украденное по стоимости не до установленной одной пятой от прежней, а только при наличии «вершка» над ней, разумеется, вкупе с «нормой», исчисленной до него, до «вершка».
Последствия этого возникали прелюбопытнейшие.
Ворьё оказалось не только многочисленным, но ещё и грамотнее законодателей. Высчитывая «меру» своего преступления, оно стало брать чужое чуть меньше чем на сумму определённого законом «уровня»: можно было с такой «арифметикой» пойти и на вторую, и на третью кражу и т. д., — не опасаясь, что «проколы» будут «накладываться» друг на друга и приведут к наказанию за содеянное.
Тем самым новая норма, оберегая свободу граждан, спровоцировала воровство в масштабах ещё более широких, чем оно было раньше. При этом административные меры (штрафы) оказывались бессильны для восполнения потерь. А ведь потери, на что следовало бы обратить особое внимание, выражались тогда не только украденными ценностями. — «Предусматривалось» дальнейшее разложение общества, опошление смысла общественной жизни.
Неизбежно в таких случаях должны были пополняться колонны людей с разбитыми личными судьбами. Становилось печальной реальностью образование множества групп и ячеек, промышлявших мошенничеством.
Считаю оправданным не прибегать к упоминанию о дальнейших уточнениях текста удостоенного нашего внимания кодекса — дабы яснее была видна нелепость идеалистической ориентации государственного уголовного права на максимальное «освобождение», то есть фактически — на провоцирование массовой преступности.
Потерпевший в таких условиях ни в чём не получает никаких преимуществ: его свободность бытует за пределами случая, порождающего преступление; он «как все» — только там, за этими пределами. Зато в «выигрыше» истинный виновник.
Его свободность (свобода от заповедей «не укради», «не убивай» и т. д.) возрастает не сама по себе и не от плохого только воспитания, как об этом издавна и достаточно много и эмоционально пишется и говорится, а в значительной степени под влиянием существующего права на «освобождение» «до конца». И под ним же не может не находиться позиция прокурора, следователя, адвоката, судьи, присяжных, пристава. Особенно, конечно же, адвоката, для которого защита «убойного» права в подавляющем большинстве случаев не может не быть грязной сделкой со своей совестью.
Исходный правовой момент взят здесь, как видим, в такой гипотетической обобщённости (заранее абсолютизирован), когда свободное чем дальше, тем более не поддаётся ограничивающему закону.
Освобождаясь по жизни «до конца», виновник ускользает из пространства публичного права, переходя на территорию права естественного, в ту его часть, которая не освещена идеалами справедливости и добра. Где уже очень часто не бывает и ответственности. — После этого нужно ли удивляться, что указанный законодательный акт вобрал в себя уже хорошо обтёртый в чиновничьих представлениях постулат сомнительной, «целесообразной» снисходительности и весь прошит робостью перед несоблюдением правового условия «освобождения» виновного от ответственности. Ввиду чего он должен нередко автоматически освобождаться и от справедливого наказания.
Установленный от лица государства мораторий на смертную казнь подтверждает, что особый вид (особая причина) снисходительности и робости имеют место быть.
Это по существу знак правовой растерянности, которую не скрыть никакими разглагольствованиями о гуманизме и о невозможности уменьшить размах преступности ужесточением наказаний. По поводу этого последнего «объяснения» растерянности хотелось бы сказать, что его теперь всегда стыдливо комкают, употребляя только мимоходом как аксиому. Мол, нигде никем не доказано обратного.
Пусть эта отговорка будет на совести её творцов.
Здесь нам важнее лишний раз убедиться в существовании единственной причины лжи и «стыдливого» лицемерия. Она кроется в узаконении такого свободного, когда невероятно затруднены возможности его ограничивания, — поскольку оно взято в его абсолютности и в таком виде «профиксировано» не только в сознании, но и в публичном праве.
Положение оказалось не имеющим выхода — круг замкнулся. Выход из него практически недопустим — из «прагматических» соображений и пузырчатого фальшивого гуманизма.
Что же касается потерпевшего, то он как был бесправен, так им и остался. Он — «лишний» в буквальном значении. Его интересы никак не «вписываются» в работу судебно-правовой системы над преступлением с позиций «освобождения» «до конца». И теперь сколько бы ни вносилось в закон даже очень хороших поправок, они останутся только знаками растерянности и бессмысленной суеты; — подмогой делу справедливости это служить, безусловно, не может.
Да, к сожалению, при всём желании мне не удалось бы обойти эти грустные «итоги». За ними — разрушительное и беспощадное в «освобождении», которое должно раскрываться в результате его действенности.
И на отдельного человека — на личность, и на общества действие освобождения способно оказывать столь сокрушительное влияние, что в целом с момента его начала происходит едва ли не полный цикл деградации всего, в чём здесь могла бы состоять хоть какая-то существенная ценность.
С учётом рассматриваемой темы надо, разумеется, говорить более о ценностях, увязанных с организацией управления — общественного и частного, включая управление каждого самим собой (внутри себя); то есть — говорить о праве, о правовом (у терминов «управление» и «право» —