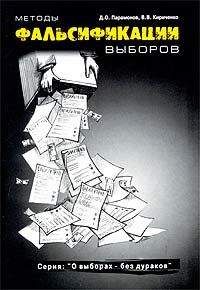Во-вторых, ключевым вопросом для выживания любых авторитарных режимов является мера готовности применения правящими группами механизмов силового подавления своих противников и возможные последствия таких шагов. В российском случае эта проблема стоит особенно остро. В самом деле, репрессивные режимы обычно не слишком задумываются о применении силы, когда речь идет о малейших угрозах их выживанию, и массовое политическое насилие (а то и просто убийства) своих сограждан для них – дело рутинное. Среди постсоветских государств примером может служить Узбекистан, где был жестоко подавлен «бунт» в Андижане в мае 2005 года. Иначе, однако, обстоят дела для авторитарных режимов, не практикующих массовые репрессии или от них отказавшихся ранее, – они могут оказаться перед нелегким выбором в ситуации вынужденного поворота от «пряника» к «кнуту». Даже если в этом случае включение машины репрессий не влечет за собой непосредственных политических последствий для режима, оно на долгие годы определяет выбор стратегии правящих групп (как это было в СССР после бойни в Новочеркасске в 1962 году). Да и сам ключевой вопрос «бить или не бить (массы, выступающие против режима)?» решается подчас в зависимости от прежнего опыта применения массового насилия правящими группами, подобно тому, как происходило в Китае в 1989 году, когда силовое подавление выступлений на площади Тяньаньмынь стало возможным в силу того, что верх в ходе дискуссий в руководстве страны о тактике противодействия оппозиции взяли ветераны революции, привыкшие убивать сограждан еще со времен борьбы Коммунистической партии за завоевание власти.
Российский опыт в этом отношении специфичен не только из-за низкого уровня репрессивности режима, но и из-за ненадежности средств массового подавления, – армия (выполняющая эти функции в ряде военных режимов) в подобном качестве в России не может быть использована, а спецслужбы, рассматривающиеся в качестве главной опоры репрессивной политики, выступают, перефразируя Иосифа Бродского, скорее как воры, нежели как убийцы. Стоит подчеркнуть, что для нынешних российских руководителей не стоит вопрос о моральных ограничениях такого рода выбора – об этом говорит опыт уничтожения ими взятых в заложники сограждан наряду с боевиками во время террактов в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и в Беслане в 2004 году (вопрос о сохранении их жизней не мог стоять в принципе). Но неверно было бы и сводить этот вопрос лишь к техническим границам возможностей подавления, которые оказываются пройдены, если и когда на акции протеста выходит настолько много протестующих, что всех их подавить попросту невозможно (известно высказывание шефа служб безопасности ГДР в адрес Хонеккера в ноябре 1989 года: «Эрих, мы не можем побить столько людей») [256] .
Скорее, следует задать вопросы в иной последовательности: (1) решатся ли российские лидеры в случае реальной или воображаемой угрозы их политическому выживанию отдать приказ о массовом насилии в отношении сограждан; (2) если да, то будет ли этот приказ успешно выполнен, и позволит ли им насилие избавиться от подобной угрозы; и (3) если да, то окажутся ли вследствие такого шага российские лидеры заложниками исполнителей своего же приказа. Ответы на все эти вопросы, как минимум, неочевидны, и остается лишь рассчитывать на то, что на деле они могут так и не встать в политическую повестку дня нашей страны.
В-третьих, наконец, ни мы, ни российские лидеры, ни Россия в целом так и не знают степени управляемости (или, точнее говоря, неуправляемости) нашей страной со стороны правящих групп. Речь идет не о проявлениях сепаратизма на региональном уровне управления или сознательного саботажа принимаемых правящими группами решений нижестоящими чиновниками – такого рода проявления сегодня для России не характерны и нет оснований ожидать их в ближайшем будущем. Речь идет о том, что в условиях высоко коррумпированного авторитарного режима иерархия «вертикали власти» просто-напросто не справляется даже с относительно небольшими перегрузками и нештатными ситуациями – например, в случаях стихийных бедствий, подобных лесным пожарам летом 2010 года, когда с проблемами локального уровня поневоле вынужден был справляться федеральный Центр в режиме «ручного управления», а нижестоящие звенья «вертикали власти» систематически дезинформировали вышестоящее руководство.
Техногенные и природные катастрофы, точно так же, как экономические кризисы, в случаях, если и когда они происходят, могут стать тестом на выживание не только для «вертикали власти», но и для режима в целом, подобно тому, как трагическая Чернобыльская катастрофа 1986 года сыграла немалую роль в трансформации политического режима в СССР – именно после нее в полной мере стала очевидной вся пагубность информационной закрытости страны и невозможность принятия адекватных решений ее руководством. Последующий же поворот к политике гласности нанес по советскому режиму неотразимый удар.
Мы не можем предугадать всех возможных последствий управленческих кризисов любого масштаба и уровня в России сегодня, но не будет большой ошибкой полагать, что при сохранении в стране нынешнего политического режима и попытках удержания статус-кво любой ценой деградация всего аппарата управления государством и проблемы принципал-агентских отношений со временем будут лишь усугубляться. А, следовательно, те или иные вызовы, сами по себе не столь существенные с точки зрения управления страной, могут в тот или иной «критический момент» истории не встретить должного и своевременного ответа – известная строчка «враг заходит в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя» наглядно иллюстрирует эту проблему. Хорошо известно, что коррупция в системе хлебных поставок в Петрограде в феврале 1917 года спровоцировала относительно локальные выступления протеста столичных жителей, вскоре переросшие в революцию, которая положила конец монархии и всему прежнему политическому порядку царской России. И отнюдь нельзя исключить типологически сходного развития событий в нашей стране сегодня – пусть даже их фактическое наполнение может носить совершенно иной характер.
Даже этого короткого перечня неизвестных величин: (1) «фальсификация предпочтений» и непредсказуемость поведения россиян; (2) уровень готовности и способности правящих групп эффективно подавлять сопротивление граждан; (3) управленческая деградация и неспособность к реализации антикризисной политики – вполне достаточно для того, чтобы снять вопрос о сколь-нибудь реалистической оценке вероятности тех или иных сценариев политического развития нашей страны. Но помимо конкретных развилок и поворотов ситуации «здесь и теперь», существует и общая логика политической эволюции режимов и обществ, и нам необходимо за деревьями текущих событий в России увидеть и лес тех политических тенденций, которые определяют настоящее и могут определить и будущее политики в нашей стране.
Вместо заключения: Россия будет свободной
Крах коммунистического режима и распад СССР произошли в 1991 году, когда в мире отмечался процесс, который Самуэль Хантингтон в том же году назвал «третьей волной демократизации» (по аналогии с «первой» волной XIX – начала XX веков и «второй» волной после Второй мировой войны). В тот период (Хантингтон датировал его начало 1974 годом, когда пала диктатура в Португалии) рухнули многие авторитарные режимы в Латинской Америке (от Аргентины и Бразилии до Чили), Азии (от Филиппин до Южной Кореи и Тайваня), Южной Европе (Испания, Греция), наконец, после 1989 года произошла демократизация стран Восточной Европы. Многим наблюдателям тогда казалось, что новый глобальный процесс всеобщего и полного перехода к демократии захватит, в том числе, и постсоветские страны, которые «по умолчанию» обречены на то, чтобы стать демократическими.
Эти во многом наивные ожидания сбылись или не в полной мере, или не сбылись вовсе – Россия в этом плане отнюдь не оказалась исключением. То, что двадцать с лишним лет назад казалось появлением на свет новой постсоветской демократии в России, на деле оказалось лишь болезненным распадом прежнего авторитарного режима и последующим не менее болезненным становлением нового постсоветского авторитаризма. Эти тенденции в нашей стране оказались вписаны в охватившие многие страны и регионы мира (от постсоветских Украины или Армении до далекой от нас Венесуэлы) процессы становления режимов электорального авторитаризма [257] . Но значит ли это, что именно авторитаризм представляет собой основную закономерность, своего рода магистральное направление политической эволюции нашей страны, а попытки ее демократизации неизбежно носят лишь временный и частичный характер, заведомо обречены на неудачу, да и в общем и целом представляют собой не более чем тупиковые ветви российского политического развития?