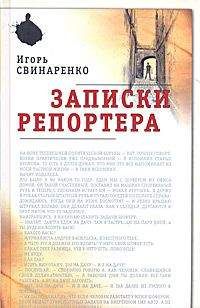Эти всплески и их последующее погашение – проявление и выражение важнейших правил русской жизни… Которые можно сломать только истребив русский народ. Наивные либералы и прочие прекраснодушные люди думают: ну ничего, еще пару-тройку усилий приложим, еще год-два понадрываемся, поучим общественность западному абстрактному гуманизму – а дальше все пойдет само собой замечательно. В их мечтах видятся русские тюремные камеры чистыми и светлыми и добрыми. И зэки там перевоспитываются, и не вшивают себе в член пластиковых шариков, но изучают полезные ремесла для последующего труда на воле. Видят они и войсковые части, где старослужащие не насилуют молодых бойцов, а, напротив, приветливо встречают их и помогают освоить ратные науки. А также и чистые, не залитые грязью кладбища с аккуратными надгробиями, и по дорожкам осенью можно пройти даже без резиновых охотничьих сапог!
Но нет, эта маниловщина – не для нас, трезвых и ответственных людей. Мы должны сперва понять устройство русской народной жизни, прежде чем тратить силы на ее улучшение и переделку. Нельзя допустить, чтоб в нашей скудной стране (богатую бюрократическую и сырьевую верхушку мы тут не рассматриваем, она выходит за рамки настоящего исследования) бедный ресурс тратился туда, где он сгорит без пользы, без света и тепла…
Прежде всего надо понять, что ценность человека низка в России даже на воле; вот с этим надо сперва разобраться, а не требовать сразу уважения к абстрактной, незнакомой тебе личности в местах заключения. Логично, что, если у нас цена жизни вольного русского человека составляет, ну навскидку, 20 процентов от средневзвешенного западника, то жизнь запертого в казарме солдата будет стоить 10 процентов, а зэка – пять, не более. А куда отнести человека, который с воли не от хорошей жизни залег в больницу? Если по блату, за деньги, – то, думаю, чуть ли не 15 процентов! (Это я по свежим следам вычисляю, полежавши.) А если это простая больница, на общих основаниях и все бесплатно, как при коммунизме? Думаю, это будет солдатский уровень, твердая десятка процентов. Туда же, на уровень десятки, попадет и пенсионер. Значит, берем мы 10 процентов, это, выходит, у нас базовый уровень, типа солдатиков с пенсионерами, и сельские учителя с фельдшерами сюда же, и библиотекарши, и студенты разных там техникумов… Это где-то средний уровень средних граждан страны. Если мы видим, что эти люди едят мясо два раза в неделю, имеют возможность помыться горячей водой раз в неделю, в театрах не бывают, ходят в обносках, ютятся в каких-то барачных каморках или в трухлявых избах с тараканами, не имеют возможности покупать свежие книги и прессу дороже «желтой» – то для того чтоб они окончательно не деградировали, не ушли в бомжи, не отравились насмерть стеклоочистителем, но продолжали жалко трепыхаться и сохранили к себе самоуважение, достаточное для того, чтоб не повеситься на гвозде, мы должны каждодневно давать подтверждения их относительно высокого статуса, внушать им, что они не дно общества, а уважаемые люди с довольно высоким уровнем и качеством жизни.
Задача осложняется гламуризацией медийного пространства, в котором полно картинок богатой жизни мелких дешевых певичек, проституток, не говоря уж про звезд и олигархов. Убийственная картина веселой жизни верхних слоев подрывает веру низов в хоть какое-то подобие правды, правды для бедных. Если мы им тут покажем швейцарскую тюрьму, особенно перенесенную в Псков, где в каждой камере горячий душ, и чисто, и отремонтировано, а потом покажем скульптурных художественных русалок, которые создают арт-среду для старых зэчек, то что скажет наш среднестатистичсекий клиент, который моется в корыте или в бане, а окна у него выходят на помойку? Что он подумает, если мы ему расскажем еще про спортзал в тюрьме и про библиотеку в 10 тысяч томов там же? А когда он, ютясь в рабочем общежитии, имея там койку среди блюющих алкоголиков, узнает от нас про отдельную комнату, которую дали отсидевшей воровке, что он подумает про свой бессмысленный честный отвратительный труд? Куда же денутся десятки миллионов этих несчастных, которые пытаются держаться на плаву без надежд? Когда мы вот там бессердечно над ними надругаемся, показав им красивую жизнь людей из низшей касты, официально вроде отверженных обществом? На какое отчаянное безумие, на какой страшный и справедливый бунт мы их обречем? Я даже думать об этом не желаю, хватит.
Для того чтоб сохранить хоть видимость разумного устройства, хоть иллюзию справедливости, хоть чучело добра поставить на огороде (оно всяко лучше повешенного на воротах от отчаяния человека или повесившегося, какая разница) – надо пролетарию и колхознику дать красивую картину его жизни. Чтоб он зауважал свой жалкий статус, мы должны ему показывать картинки из Бутырки или Крестов, а там спят в четыре смены, там ютятся под шконкой, там проигрывают сокамерников в карты и режут, и едят их, и грабят, и заражают разными болезнями, и всякими другими способами повышают статус и самоуважение нищего трудящегося на воле. Он начинает думать, что вон сколько еще у него ступеней до дна! И утром, вместо того чтоб взять топор и зарубить бригадира, который в поселке городского типа сойдет за олигарха или губернатора, человек пойдет трудиться за унизительную плату и будет чувствовать себя свободным высоким гражданином, который кузнец своего счастья и может в любой момент не то что выпить чаю сколько захочет и закурить «Приму», но даже в силах и картошки пожарить, будто он смотрящий или пахан!
В жизни все же должно быть равновесие, и оно всегда есть, если жизнь не угасла и продолжается. Сегодня знак и признак равновесия – отношение общества к зэкам как к низшей касте, отвратительным чужим уродам, которых лучше б спалить напалмом, а если все же позволить им жить, то так, чтоб они не смели показаться на глаза. Если вспомнить дореволюционное отношение к преступникам как к несчастным, то оно уравновешивалось студентами, которым было западло чистить сапоги и они нанимали прислугу. Мы же, которые студентами мели улицы и на стройках ворочали лопатами, того, что было, не поймем. Мы, студенты, были скинуты на дно жизни, куда не опускался добольшевицкий крестьянин, – и нам необходимо было для продолжения усилий увидеть новое дно, которое располагалось бы ниже нашего. И главной задачей общества, которую оно обязано было решить, для того чтоб не погибнуть под обломками рухнувшей конструкции, было отыскать новых изгоев и загнать их в свежевыкопанный подвал, который должен быть непременно ниже общежитских унылых комнатушек без удобств.
За что хвататься сегодня, чтоб поднять в обществе градус гуманности, как создать обстановку, в которой солдатика не забивали б в цинковый гроб, а зэку не отрезали б легкое и не выкалывали глаз шилом? Наверно, не с европеизации тюрем надо начинать, а с чего-то другого. Может, стоит взяться за сельскую учительницу? И подтянуть ее до такого уровня, чтоб она на зарплату могла купить какую-нибудь дрянь, «Жигули» например, и чтоб она могла отдыхать хоть дикарем в Крыму, и чтоб могла раз в год приезжать в Москву или в Питер и оплачивать номер пусть в дешевой гостинице, ночевка в которой встала б ей сегодня в недельную или месячную зарплату? Тогда такая учительница сможет пожалеть чужого зэка, она ужаснется тесноте в камере и еще там чему-то. А сегодня я ничего не могу от нее требовать, у меня нет к ней, бедной, вопросов…
ИТОГО
Однажды я ехал из какой-то тюрьмы с девушками из абрамкинского Центра содействию реформ уголовного правосудия (они помогают зэкам еще с диссидентских времен), весь на нервах, они, как люди более привычные, держались лучше, я же все думал о только что увиденных ужасах. И я в сердцах сказал им:
– Вы молодцы, что вот так мотаетесь по этим печальным местам. Но вы ничего не измените. Это невозможно. Но толк все равно есть, для вас: дела вы не сделаете, а душу спасете.
А что, тоже неплохой результат…
Думаю, это был момент истины. И весь смысл всей благотворительности в сторону зэков ровно в этом и больше ни в чем.
Что тоже немало.
Бендер: в России любят всякое жулье
12 стульев в спину революции
Отчего наш народ так любит разных жуликов, натуральных уголовников, бандитов? Почему наши люди им так страстно отдают свои голоса – причем не только ведь в волжских городах?
Этот вопрос я изучал на примере всенародной любви к Остапу Ибрагимовичу Бендеру. Изучение шло в городе Козьмодемьянске (с которого списаны знаменитые Васюки) на Волге. Там трепетно хранят память о славном персонаже: в городе даже есть Музей Бендера.
Симпатичный Бендер – чисто уголовный тип
Но кто же такой, в сущности, этот Бендер? Взглянем на него трезво.
Остап – страшно веселый и дико симпатичный парень. Таким его знал советский народ, и ровно таким же продолжают знать, извините за выражение, россияне. При том что он, конечно же, профессиональный преступник. Об этом говорят тонкие намеки, раскиданные по тексту рукой Евгения Петрова – бывшего одесского сыщика (переклички с уголовным кодексом, с феней, тюремные шуточки и проч.). Для тех же, кто намекам не верит, сообщен упрямый факт: не далее как в 1922 году Остап сидел в Таганской тюрьме.