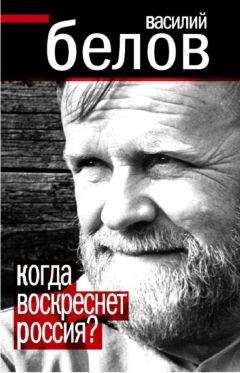— То, что было в Кондопоге, ожидалось уже давно. И это еще будет происходить не раз, в самых разных городах и поселках российских. А что должен делать нормальный хозяин, когда в его дом приходят незваные гости и начинают хозяйничать? Ну, как можно осуждать этих карельских ребят, которые стихийно выступили против наглости и бесчинства мигрантов? Это вполне здоровая, нормальная реакция на бытовом уровне. Конечно, все эти межнациональные вопросы можно и нужно было решать политически.
Но почему не решают?
И вот ведь, что еще возмущает: когда наших русских соотечественников избивают или уничтожают где-нибудь в близком-дальнем зарубежье, журналисты почему-то не поднимают столько шума вокруг этого. А национально-бытовому конфликту в Карелии уделили чересчур много внимания. Но пусть лучше они ответят на вопрос: а как еще русский народ сможет сам себя защитить, если власти ничего не предпринимают законодательно?
— Василий Иванович, что хотите пожелать начинающемуся съезду русских людей в Москве?
— Я уже говорил, что всей душой приветствовал идею Славы Клыкова возродить Союз Русского Народа. Это вполне осознанный шаг. И необходимый. Мы давно уже на краю пропасти балансируем. Живут припеваючи и жируют лишь немногие выскочки и предатели. Народ же в массе своей попросту выживает. И пора уже русским людям самим определять свою судьбу и судьбу своей Родины.
Не ждать, что там за нас решат наши кремлевские властители, что подскажет бандитская Америка со своей винегретной ООН, а самим идти своей дорогой…
В первую очередь деревню надо спасать и возрождать. И сегодня не нужно кому-то доказывать ее перспективность. Ну, какая Россия без деревни? Нашу страну хоть и называли в древности Гардарикой, Страной городов, но все же я точно знаю: по большей части она была аграрным государством. Огромные территории России осваивались и обрабатывались именно сельскими жителями. Деревня своим чистым продуктом всю страну снабжала, а сегодня нас пытаются закормить всякой американской химией, да еще и рекламируют ее нагло по телевизору.
Желаю русским людям только одного — скорейшего объединения. Сколько было за эти годы разных патриотических партий и союзов. А языка общего не могли найти, междоусобную грызню каждый раз затевали. Не надо выяснять, кто первее и главнее в деле Возрождения. Каждый — первый, каждый — главный, от каждого что-то зависит. Только сообща мы сможем помочь нашей Родине.
Поэтому лично я возлагаю большие надежды на возрожденный Союз Русского Народа.
А его руководителя — генерала Ивашова — давно уже знаю и ценю как подлинного Русского Патриота. И желаю, чтобы эта организация стала настоящим Союзом — штабом народным, выразителем интересов народа и защитником его…
«Русский вестник», 2007
Часть третья. Соприкосновение с прошлым
Мое первое приобщение к истории и культуре древнего мира было весьма несчастливым. Конечно, ощущение несчастья пришло только теперь, спустя тридцать семь лет. Тогда же, в первой половине, в середине да и в конце сороковых, будучи голодными и полураздетыми, мы и не подозревали о несчастьях подобного толка. Можно ли говорить об этом во множественном числе? Почти все мои школьные сверстники, словно бы подражая отцам и старшим братьям, не дожили до своего даже сорокалетнего рубежа.
Историю древнего мира вела у нас сама директор (или директриса?) Ф. П. Замыслова. Была она очень высокая, неуклюжая, ходила с какой-то странной мужской перевалочкой. Стриглась под польку, но гребенка постоянно торчала над ее белым детским затылочком, круглые добрые глаза очень не соответствовали головному убору — не бабьему платку и не дамской шляпке, нет. Она носила какую-то шапку, что-то среднее между монашеской камилавкой и солдатской папахой. Почему в 1944 году она учила нас именно древней истории? Все просто. В 20-е и даже еще раньше, вместе с другими явлениями кооперативного движения, во множестве появились эти поистине ренессансные типы, которые умели работать всюду, куда бы их ни поставили. Причем и работали вовсе не плохо. (Кооператор тогдашних времен считал торговлю делом попутным, главным для него было просветительство, культурное и экономическое.) Фауста Парменовна как раз и была из этого почти исчезнувшего к началу войны кооперативного племени. Она одинаково добросовестно трудилась и директором школы, и директором маслозавода, и председателем сельпо, и секретарем сельсовета. Преподавая нам историю Эллады и Древнего Рима, она мелким, ровным, изящным почерком переписывала в общую тетрадь страницы из учебника, пропуская места, набранные петитом. На уроке она с той же тщательностью зачитывала эти записи нам. (Для меня это обстоятельство стало главной причиной пожизненного отвращения ко всякому конспектированию.) Запомнилось: Фауста Парменовна почему-то с особым удовольствием пользовалась словом изящный. Она произносила его с твердым разделением, получалось изъяшный. До войны на Севере пекли пироги не только из пшеничной муки, но и из яшной (ячневой), и я помню, как всегда при этом слове во рту скапливалась слюна…
Странно, но все римские императоры и полководцы до сих пор представляются мне слепыми, ведь в учебнике печатались только скульптурные изображения. Искушение дополнить рисунки было настолько сильным, что я, несмотря на жесточайший запрет черкать в книгах, постепенно дорисовал зрачки Зевсу, Периклу и Александру Македонскому. Из римлян этой чести удостоились, кажется, только Сулла и Нерон, поскольку меня лишили учебника и передали более бережливому. Позднее я узнал, что древние греки раскрашивали скульптуры. Если это действительно так, то какого же цвета были глаза у мраморного Гомера?
…Обо всем этом я и думаю, поджидая аэрофлотовский завтрак, с помощью которого легче привыкнуть к нудному гулу двигателей, к тесноте, к самолетным курильщикам.
Аэрофлот не экономит пока на завтраках, если летишь во Владивосток или за границу. Но меня слегка покоробило то обстоятельство, что места в самолете, летящем не куда-нибудь, а в Рим, можно занимать любые, какие вздумается. Не поэтому ли у трапа образовалась толкучка? На лицах многих мужчин явственно отражалось борение сил (локти в любую секунду могли выйти из-под контроля интеллигентности). Да что говорить, был момент и у тебя самого, когда так и подмывало осадить таранную даму, обошедшую тебя в очереди, либо сказать вежливую колкость мужчине, который по-дамски же игнорирует твои пассажирские права и даже само твое существование.
Обиды такого масштаба исчезли, стоило лишь ступить на трап. Я с детским телячьим восторгом занял место у иллюминатора. Интересно, кому первому из рационалистов пришло в голову беспричинный восторг назвать ни больше ни меньше как телячьим? Бедняге некогда было думать над менее циничным термином. Ничто в мире не может существовать беспричинно — скажет просвещенный читатель, то есть тот самый ученый человек, кому заранее все известно и о котором А. И. Герцен говорит: «.. Но я уверен, что со временем ясно докажут, что прилагательное «ученый» уничтожает существительное «человек».
Не знаю, что сказать о причинности, а также о взаимных отношениях человечности и учености. Разглядывая с высоты девяти километров коричневые балканские разветвления и голубые адриатические полотнища, я вновь переживаю восторг детства, снова живу чем-то подобным, таким же голубым, но не морским, а небесным, таким же золотистым, только не таким объяснимым.
Восторг исчезает, когда начинают его объяснять. Я могу лишь раствориться в нем, в этом весеннем утре, еще перечислить то, что его составляет, да ведь даже и не перечислишь всего. Врезалась в сердечную память молодая, еще не седая от горя мама, веселый отец, братья и сестры, непостижимо большое синее небо, поющие вокруг петухи, крики сверстников, синие омута нашей речки, трава, вкусные пироги, новая красная ластиковая рубашка. Сотни, тысячи других ощущений… И все это объединялось одним беспричинным восторгом.
Богаче ли становится жизнь, понемножечку исключающая, ну, такие, к примеру, душевные состояния, как ревность? Или стыд? Продолжать перечисление явно ни к чему, хотя бы потому, что каждым даже из двух этих слов обозначено слишком много. Между тем они, эти и подобные им слова, исчезают. Они куда-то прячутся, причем не только в журналистике и литературе. Силовое поле современной обстановки выталкивает их как чужеродные, многим из нас они кажутся какими-то неуместными и едва ли не ретроградными. О каком там стыде или ревности можно всерьез толковать в наш прекрасный ядерный век? Заметьте — ядерный. Ни больше ни меньше — ядерный — и баста, и толковать вроде бы не о чем. Глобальность понятия (век, да еще ядерный) как бы снимает с человека тяжесть личной ответственности, освобождает его от мелочей типа стыда, совести и т. д. А может быть, такие слова уходят из языка добровольно, просто уступая место своим синонимам? Но тогда где они — эти синонимы?