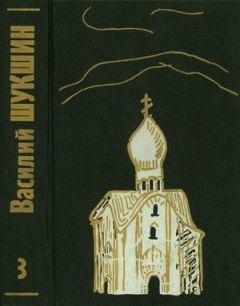теми же средствами. Вы попробуйте записать фильмы Чаплина — пусть самый опытный литератор это сделает и пусть будет так же смешно и умно, как у Чаплина, — но средства-то будут разные.
Поэтому мы делаем ошибку, когда судим кинематограф по законам литературы. Кинематограф требует своего суда — это зрелищное искусство. Природа его иная, и суд должен быть иной. При всем нашем старании мы в фильме не сумеем передать всего, что есть в романе. То есть не надо потом листать роман и говорить: «А вот этого в кино нет…» Всего и не может быть. Уже то обстоятельство, что роман ты читаешь неделю, а в кино сидишь три часа, — одно это многое уже меняет. Все дело в аккумуляции зрелищного образа — тут вся сложность. Потому что жест актера, который за доли секунды промелькнул на экране…
— Тоже фраза?
— Фраза! Больше того, страница описания. Самого глубокого, самого умного описания. Но средства тут разные, а суд мы прилагаем один и тот же. Мы говорим: «Это в романе есть, а в кино нет». Ну и что же, что нет? Зато в кино есть то, чего нет в романе: зрелищность и сиюминутность происходящего. И наблюдение за актером и за текучестью его мимики. За мыслью, которая в глазах, то есть средства огромные, только мы не всегда ими разумно пользуемся и не во всю мощь их пускаем.
Поэтому, если говорить об этом в случае собственном, положим, для меня литература перестает существовать, когда начинается кинематограф. Я потом и сценарий даже не читаю: уже включается и другой мотор, и иная цепь, и иной род повествования. Поэтому у меня никогда сценарий не походит на готовый фильм, да я и не считаю, что сценарий надо непременно точно, буквально переносить на экран. Просто для меня в лучшем случае сценарий — руководство к действию.
— Можно ли сказать так: для вас написанный вами сценарий — только символы будущих эпизодов, сцен и т. д., лишь некое обозначение будущего фильма?
— Немножко не понимаю вопрос, — отозвался Шукшин, в тот момент думавший, видимо, о чем-то другом. — О чем вопрос-то?
— Перед фильмом у вас есть написанный сценарий плюс нечто в голове…
— А! Конечно, конечно. То, что в голове, вообще никогда не запишешь. Потом то, что на бумаге, мне нужно во многом для того, чтобы окружающим людям как-то рассказать, о чем я собираюсь картину делать. Для себя же я оставляю возможность работы на площадке — с актером, с оператором, с художником. У меня фильм в основном происходит как-то потом. Но это — отдельный случай.
При всем том я участвовал в фильмах, которые похожи на сценарии. Так тоже можно жить и работать. У меня немножко иначе — это очень субъективный подход к делу. Просто-напросто мне приходится потом уже сценарий записывать по фильму. Вот я переиздавал однажды сценарий «Живет такой парень». Попросили в издательстве, и я показал им сценарий, который совершенно непохож на фильм. Пришлось мне по картине записывать вроде бы сценарий. Она существует, кстати, эта форма — не я первый.
— А изменяется ли как-то сюжет при переносе прозы на экран? Становится ли он более стремительным, скажем? И вообще какую роль вы отводите сюжету?
— Я о сюжете стараюсь не думать — он лезет в меня сам. Я пытаюсь бороться с ним, но у меня еще ничего не получается.
Вот смотрите: я очень неодобрительно отношусь к сюжету вообще. Я так полагаю, что сюжет несет мораль — непременно: раз история замкнута, раз она для чего-то рассказана и завершена, значит, автор преследует какую-то цель, а цель такого рода: не делайте так, а делайте этак. Или: это — хорошо, а это — плохо. Вот чего не надо бы в искусстве.
Когда я попадаю на правду — правду изображения или правду описания, — то начинаю сам для себя делать выводы. И весьма, в общем-то говоря, правильные, ибо я живой и нормальный человек. Почему же иногда не доверяют этому моему качеству — способности сделать правильные выводы? Эту работу надо мне самому оставлять. Меня поучения в искусстве очень настораживают. Я их боюсь. Я никогда им не верю, этим поучениям. Как читатель и зритель не верю поучениям ни из книги, ни с экрана.
— Вы считаете, что это делается с помощью сюжета?
— И сюжета. И сюжета, — повторил Шукшин, делая ударение на «и».
— А что же нам опять-таки делать с великими образцами? Классики ведь совсем не безразлично относились к работе над сюжетом…
— Перескажите сюжет любого романа Достоевского — вам не удастся передать глубину произведения: не в сюжете дело.
— Но из этого не следует, что он не заботился о сюжете. И это значит, что только посредственный актер вполне исчерпывается сюжетом, поскольку за душой у него ничего больше нет.
— Тут вот штука-то именно в этом: может быть, сюжет служил Достоевскому только поводом, чтобы начать разговор. Потом повод исчезал, а начинала говорить душа, мудрость, ум, чувство. Вся суть и мудрость его писаний, она не в сюжете как раз, а в каких-то отвлечениях. Это потом, отбросив все остальное, можно докопаться до сюжета. Но отбросить все остальное — это значит отбросить Достоевского.
— Чем, на ваш взгляд, отличается диалог в прозе от диалога в кино и