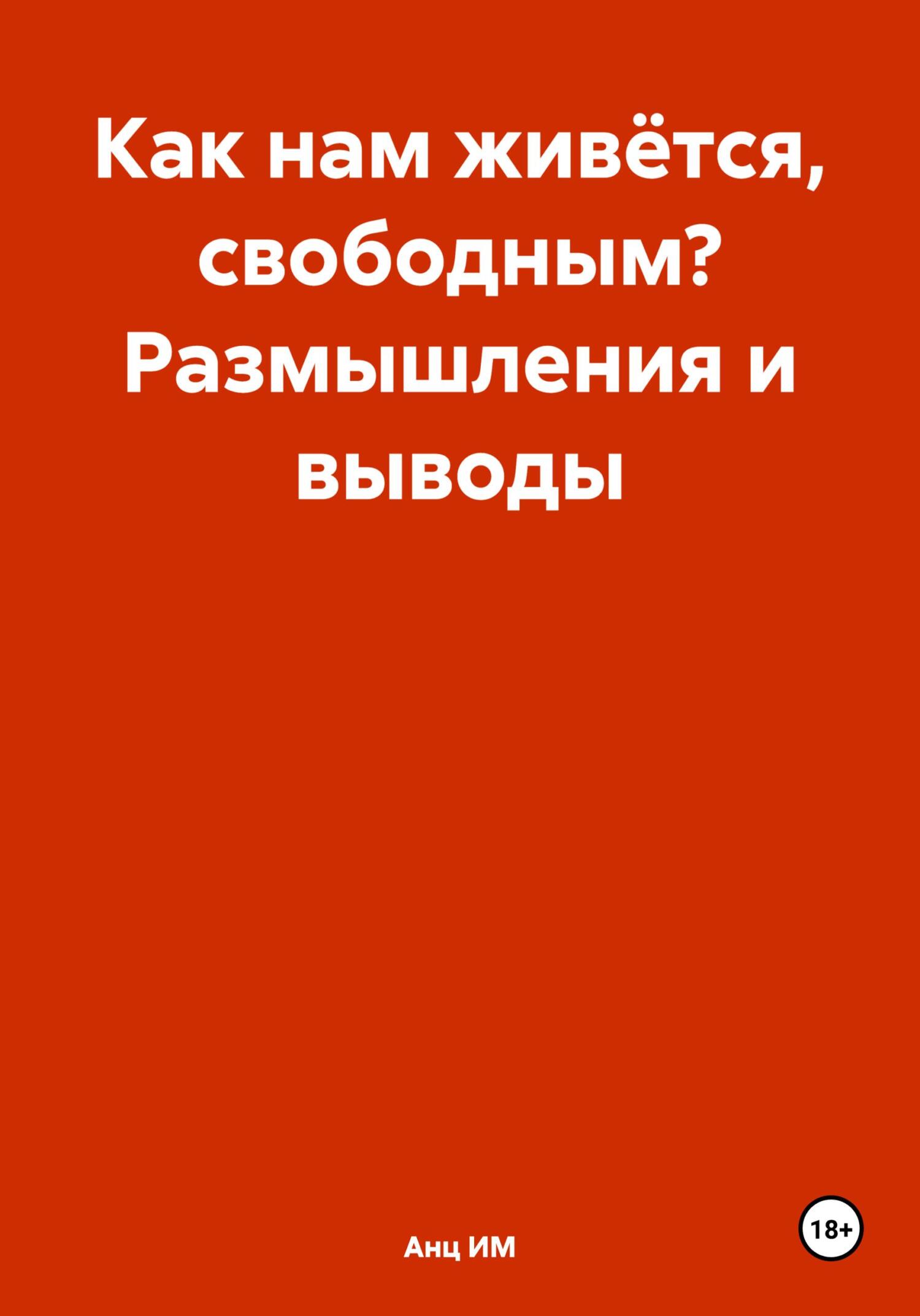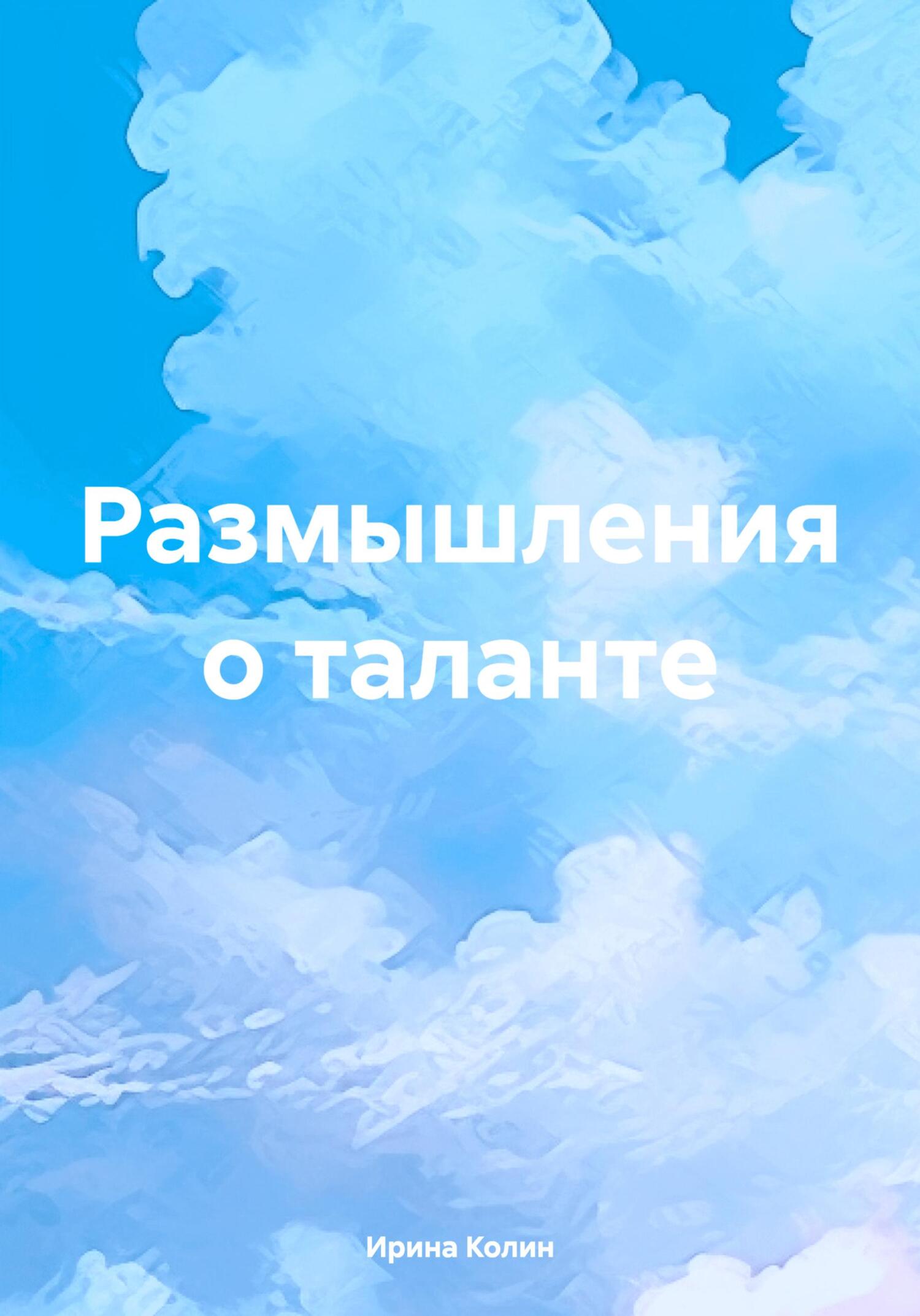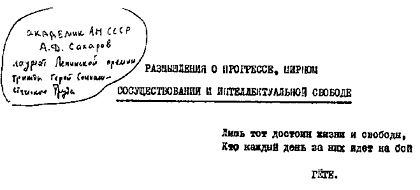не такая уж и «отрицательная», чтобы ею раздражаться и не принимать её; повторяемость ночи и дня, заход и восход солнца в течение каждых новых суток; повторяемость формы одежды на каждом другом военнослужащем или полицейском; утомляющее однообразие молитвенных текстов, произносимых по многу раз на одних и тех же богослужениях.
Великолепный пример того, как однообразное, повторяющееся может быть и полезным, и даже нужным, преподал Наполеон Бонапарт, который, найдя в романе Гёте «Страдания молодого Вертера» увлекательные смысловые глубины, перечитал это «захватившее» сразу при его издании многие европейские страны произведение, по его словам, «от корки до корки» восемь раз.
Аналогичное имело место у Льва Толстого: известно, что отдельные свои прозаические шедевры он переделывал (заново переписывал) не то что по нескольку раз, а — по нескольку десятков раз.
Да, разумеется, не исключается и иное.
В Нью-Йорке, например, любого способно вогнать в тоску уже одно только номерное название улиц. Если вернуться опять же к личности Бродского, то, между прочим, у него нигде в эмиграции «боязнь» (или — «болезненность» восприятия) повторяемого «не отмечена» — ни в творчестве, ни в публичных откровениях, чего нельзя сказать об его отношении к стране, которую он вынужден был покинуть.
Рассуждая в «Нобелевской лекции» о бегстве «от общего знаменателя», Бродский, похоже, не придавал значения сходству этого «понятия» с формулой Баратынского о «лица необщем выраженьи»* и просто не мог отказать себе в удовольствии лишний раз побыть на виду оскорблённым собственным изгнанием.
*(Е. Баратынский. «Муза». По изданию: «Библиотека по-эта». Е. А. Б а р а т ы н с к и й. «Полное собрание стихотворений»: «Советский писатель», Ленинград, 1957 г.; стр. 142).
Бегство и в самом деле давало ему кой-какое «преимущество» при освещении темы СССР, что видно по стихотворению «Ответ на анкету» от 1993 года, где, в частности, сказано:
Но нестерпимее всего филёнка с плинтусом,
коричневость, прямоугольность с привкусом
образования; рельеф овса, пшеницы ли,
и очертания державы типа шницеля.
(И о с и ф Б р о д с к и й. «Сочинения». «У-Фактория», Екатеринбург, 2002 г.; стр. 681).
Это могло говорить только о своеобразном смирении перед реальностью, но в таком виде, когда личность ещё не успела набрать необходимой устремлённости к свободе в её правовом и притом очень расширенном значении, исключающем остановку или хотя бы оглядку на предыдущее.
То, что всё происходило именно таким образом, доказывается неисполнением «компромата», о котором заявлялось, или точнее — не очень активным участием в таком действе. — Однако это лишь редкий случай «мягкой» «развязки» со свободой.
Самостоятельно выставить ей преграды подавляющему большинству людей попросту, видимо, не дано.
Как мы не могли уже не заметить, обстоятельства нередко принимают совершенно нелепый оттенок, когда свобода «витает» перед людьми и в их сознании как выражение государственного, публичного права. Лишнее теперь отторгается по закону. И, безусловно, отторжение должно иметь предельно крайнюю форму при апелляции права к абсолютному.
Здесь компрометирование нередко «выходит» из опошлённого. Или также — из абсурдного. При этом играет роль обуздание свободного, «предназначенного» для выражения в сущем, существенном: оно как бы увлекает это существенное за собой и как бы его испытывает, что, кажется, нисколько не противоречит общепринятой логике. В том же случае, когда в существенном выявлялась бы алогичность, оно, существенное, должно бы «прекращаться», растворяясь в исходящем на нет, склонном к саморазрушению свободном.
Собственно, это — путь в абсолютное, и ради того, чтобы в сущем не происходило принудительного искривления или игнорирования логичного, его, сущее, и надо бы «испытывать», предоставляя ему возможность развиваться свободно.
Вся беда в том, что практика всегда имеет дело с приблизительным. Сущее в практике, особенно в управлении, есть и требуется на каждом шагу. Но многое не в состоянии сохраниться, будучи отдано свободе. Гармония нарушается. И тогда предпочтение отдаётся уже несущественному, но — якобы существенному.
Именно его «приспосабливают» к действию разрушающего свободного. Через идею, освящённую правом. Тот же путь к абсолютному. Но теперь всё то, что существенно, должно регулироваться принудительно, с «поправкой» (насильственной) на идею. Тем самым также должно быть искажено или выхолощено право. И поскольку принуждённое всегда претендует на свободу, она в нём — подозрительна.
Приходит пора игнорирования сущего, его отчуждения и удаления там, где только это удаётся, конечно, на основе обмана — обманной апелляции к добру через что-нибудь «возвышенное», «патриотичное» и проч.
Образ государства, где управление устроено по такому сценарию, не может не рисоваться исключительно в сумрачных, закатных красках. В искажённом свободном здесь видят именно возвышенное, патриотичное, национальное или уж и националистическое и проч. Остальное становится как бы «лишним»: им можно пренебречь, можно его «забыть», даже растоптать или изничтожить.
Тут как тут и пропаганда с обманным лицом — омытым в источнике верховной (или абсолютной) идеи. Найти компромат ей не составляет никакого труда.
Мы постоянно это наблюдаем сейчас, узнавая позиции США, Евросоюза, Англии и подчиняющихся их политике других государственных образований к действиям и заявлениям России, когда что бы с её стороны ни предпринималось, объявляется кознями Кремля и игнорируется в сопровождении быстро готовящейся лжи, исходящей из любых возможных официальных или неофициальных источников, не говоря уже о средствах массовой информации, где всесветская ложь в отношении России стала показателем их противоестественного шального идеологического единства в угоду своим хозяевам, а одновременно и — их тотальной продажности, — того, что легко допускается при любимой ими, туманной и дезориентирующей свободе слова.
К этому прибавим, что если при общей неполноценной идее «дозволяется» полная свобода, то абсурдное становится очень быстро очевидным для всех. Кому в наши дни не знакомы мотивы безудержного развития алкогольной промышленности и тотального разлагающего воздействия такого развития для населения в том или ином обществе. Но при решении вопроса «как тут всё-таки быть?» абсурдное здесь «обходят».
В управленческие умы, кажется, навеки вбито целесообразное, состоящее в том, что доходы от выручки за алкоголь идут на пополнение бюджетов. И всегда, возвращаясь к этой болезненной общественно-социальной проблеме, управленцы, а заодно с ними уже и законодатели видят свою задачу только в урегулировании сбора доходов от продажи алкоголя — путём установления государствами акцизов, монопольных прав и проч.
Все знают, что проблема «загоняется внутрь». Но никто слова не скажет, что здесь тупик сооружён из представлений, не предусматривающих предела для развития алкогольной промышленности. Это — табу.
Которое «удерживает» в себе, не выпуская, только одну, но действительно целесообразную необходимость — свёртывание промышленности, причём если и не полное, то хотя бы до тех пределов, когда производство и