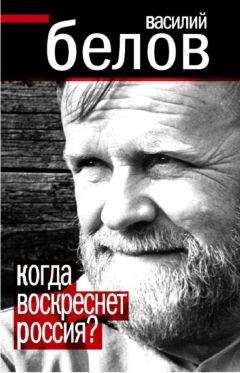«Тиберий Гракх задался целью избавить государство от грозивших ему бедствий. Он считал, что лучшим средством для этого было бы восстановление исчезнувшего класса мелких землевладельцев». Так говорится в одном из учебников по истории древнего мира. Но этот дальновидный патриций, всерьез думавший о будущем государства, был жестоко убит вместе с братом и всеми сторонниками. Женщинам даже не позволили оплакать и похоронить погибших. За голову Тиберия Гракха было обещано столько золота, сколько она весит. Какой-то благородный прохвост отыскал тело, отделил голову от трупа, заменил мозг крестьянского заступника свинцом и положил на чашу весов.
Традиция обогащения за счет чужих мозгов, к стыду нашему и сожалению, не исчезла и в наше время. Но у меня нет сейчас настроения говорить о плагиате и воровстве…
Как мало оставляет за собой течение истории, если из его отложений каким-нибудь способом вычесть искусство! Может быть, Н. В. Гоголь еще и потому любил этот город, что здесь как на ладони видна вся человеческая культура, начиная от египтян (если не от шумеров) и кончая современностью. В Риме все и вся встает на свои места. Разрозненные и путаные представления о развитии искусства приобретают здесь лад и стройность. Исчезают зияющие эстетические провалы (лакуны, как говорят в ученой среде), обнажается неестественность надуманных стыков. Приходит, наконец, ясное ощущение непрерываемости культурной традиции. Вечная новизна античности, о которой так много был наслышан, становится определенной и образной. И лишь после всего этого в сознании четко вырисовывается убожество модернизма.
Вестибюль второразрядной гостиницы, где мы переводим дух после торопливых хождений по Риму, обставлен удобной мебелью. Украшение его составляет превосходно инкрустированный столик, довольно симпатичная, хотя и излишне сентиментальная картина и… сварное чугунное сооружение, символизирующее неизвестно что, скорее всего само себя. Такая последовательность — превосходный стол в стиле барокко, маньеристская картина и абстрактное чугунное сооружение — вызывает не только улыбку. Поджидая спутников по делегации, я вспомнил две свои поездки во Францию. Лувр, так же как Эрмитаж или Ватиканский музей, не любит скороходов-туристов. Он равнодушно и, как мне показалось, хмуро слушал сдержанный вавилонский шум и гул многоязычной толпы, терпел духоту от ее многотысячного дыхания. Наверное, добрая половина людей пришла сюда лишь по модной необходимости. Но можно ли за это осуждать людей? Измученный толкотней и оскорбительным ощущением недостатка времени, я протолкнулся в залу, где господствовала ехидная улыбочка Моны Лизы. Картина слегка разочаровала. Гораздо сильнее подействовала на меня одна мадонна в том же зале. Но я не запомнил имени художника. Такая же толкучка стояла внизу, около Венеры, вернее, Афродиты Милосской. Обнаженная до самых бедер и как бы стыдясь того, что она безрукая и не может прикрыть наготу, она вполуоборот, спокойно и целомудренно смотрела поверх туристских голов. Казалось, что вода еще стекает с завитков, не попавших в узел волос, а крохотная складка между правым предплечьем и основанием по-юношески недоразвитой груди тотчас расправится, стоит Афродите сделать движение рукой.
Но волосы не обсыхают и складки не исчезают вот уже третье тысячелетие.
Нику Самофракийскую видно было значительно лучше, но она не вызывала чувства земного присутствия, может быть потому, что улетала, пыталась исчезнуть.
Лувр закрывался через двадцать минут. К сожалению, даже подобные обстоятельства не учат нас беречь время, которое тратится и коверкается человеком так же безжалостно, как и окружающая среда. Больше того, иногда мы покушаемся даже на последовательность минувшего. Шли упорные слухи о том, чтобы экспозицию Лувра, основанную на этой последовательности, заменить другой, отвечающей так называемому стилевому принципу размещения. Не знаю, проведена ли в жизнь идея такого содомского (иначе не назовешь) размещения луврских произведений, но в богатом обширном здании абстрактного искусства, наоборот, принцип временной последовательности использован был в явном излишестве. Игнорируя существование музея импрессионистов, экспозиция абстрактного музея в Париже начинается именно с них. Доказывается естественность, неумолимость, что ли, перехода от импрессионизма к абстракционизму, от реализма к модернизму. Экспозиция внушает зрителю ту мысль, что абстракционизм такое же жизненное явление, как импрессионизм. Увы, не такое. Мертвую схему давних и новейших «гениев» не оживят ни перекидные мостики, ни амортизирующие прокладки. Жалкие потуги абстракционизма стать законным преемником классического наследия ничем не кончаются, они только лишний раз обнажают его творческую несостоятельность.
Вообще-то с ним, то есть абстракционизмом, лучше не связываться. Бороться или упрекать здесь бесполезно. Модернисты всегда словно щитом прикрываются благотворной необходимостью новаторства, они всегда и кого угодно сумеют обвинить в отсталости и ретроградском мышлении. Одно лишь время способно с ними тягаться. И оно до неприличия расшвыривает и поглощает их, подобно Хроносу, пожирающему своих детей…
Пока вспоминался Париж, прошла усталость в ногах, вновь нахлынула жажда общения с Римом, которое, согласитесь, достается не каждому и не часто. Вот он, этот город, рядом, за дверью гостиницы. Триста шагов — и ты увидишь термы Веспасиана…
Не дождавшись своих строгих друзей, я возвратил портье ключ от номера.
* * *Есть нечто унижающее человека в этой его вечной спешке, в планировании каждой минуты, в торопливости, будто бы экономящей время. Вспоминается пословица «тише едешь — дальше будешь». Один или два дня в Риме? Курам на смех… На Флоренцию нам отпущено и того меньше. Даже не хочется ехать. Мы проведем там всего три-четыре часа, вернемся и умчимся на Сицилию. Собрания и диспуты преследуют всюду, аж за кордоном. К тому ж еще эти магазины… Сколько раз я зарекался не тратить время на покупки и сувениры! И ничего не выходит. И так велик, так неприятен контраст между музеем и магазином, так противоестественны их сочетания. Теперь же, спустя несколько месяцев, я каюсь, что побрезговал сувенирным киоском и не купил флорентийский альбом. Вспоминаю, пытаюсь представить город с красноватыми кровлями, город, который в одиночку породил и подарил человечеству столько гениальных людей.
Не знаю, как в других странах, но у нас, пожалуй, никто из них, кроме, может быть, Леонардо да Винчи, еще не оценен по достоинству. Массовому читателю и массовому зрителю почти ничего не известно о Флоренции, например, дантовского периода. Ученые люди не знают, в какую графу поставить Савонаролу: с одной стороны, вроде бы обличитель, с другой — как будто религиозный фанатик. Не лучше ли промолчать? С Макиавелли — та же история, а о Марсилио Фичино толкуют лишь узкие спецы, да и то больше между собой. Субъективизм, который так не любят в интеллектуальной среде, то и дело высовывает свои уши, торчат они и на Западе: из многотомных исследований, эссе и романов. Гений Савонаролы, к примеру, давно ошельмован многими западными знатоками истории.
Как-то на день рождения сестра подарила мне роскошный альбом. Это была книга Бруно Нардини «Жизнь Леонардо», книга с превосходными иллюстрациями и кадрами из многосерийного итальянского фильма. Автор во многих местах почему-то настойчиво твердит о физической красоте Леонардо, о его благородстве и пристрастии к роскошной одежде. В книге целая глава посвящена «ревнивому чувству Микеланджело». «Леонардо воплощал в своем творчестве золотую пору гуманизма, — говорит Нардини, — все в нем было гармоничным: красота, королевская горделивость, чудесные одежды, свита учеников. Микеланджело, наоборот, воплощал кризис гуманизма, противоборство демонического начала с божественным, протест против мудрости, борьбу с любым проявлением дружеской терпимости. Микеланджело было тогда всего двадцать шесть лет. Невысокий, с гривой черных спутанных волос на большой голове, он смотрел на всех возбужденными, горящими глазами, одевался плохо, был завистливым и раздражительным, не имел ни друзей, ни учеников». Так пишет наш современник, итальянец, в книге, переведенной и роскошно изданной издательством «Планета» двадцатидвухтысячным тиражом. (По западным понятиям, тираж для такого рода литературы действительно грандиозный.) Гениальный художник не может даже и в малой мере рассчитывать на свою мало-мальски объективную биографию, поскольку гениальный художник и его биограф обычно разномасштабны.
Какую же нужно иметь самонадеянность, чтобы, подобно Мережковскому, осмелиться описать встречу Леонардо и Микеланджело! Причем Буонарроти почему-то и здесь показан с нескрываемым авторским раздражением. Мережковскому известно откуда-то, что у героя «оттопыренные уши и клочковатая козлиная борода», автор знает даже, что произнесла Мона Лиза о Микеланджело, позируя Леонардо. Мережковскому известно откуда-то, что Микеланджело не любит «тишины, в которой господь», что он «вечный бунтарь» и т. д. Вначале говорят о «драме жизни», об «отсутствии гармонии и неистовстве», затем все это преподносят как давно исторически доказанный факт. И только после того развивают собственные теории, как это делает в своем романе другой, более известный автор. Однако же писать роман, а не документальную биографию о художнике масштаба Микеланджело — еще опаснее. По моему глубокому убеждению, право на подобную смелость имеет только художник, если не превышающий, то хотя бы равный своему герою по духу и по таланту. И роман этот должен быть написан так, чтобы по своему художественному достоинству не уступал хотя бы одному из произведений, принадлежащих описываемому лицу. Да и то еще неизвестно, как посмотрел бы читатель на такой роман о Микеланджело, если хотя бы раз в жизни взглянул хотя бы на одну потолочную фреску Сикстинской капеллы…