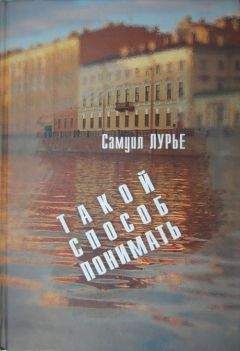На еженедельных политинформациях в трудовых коллективах, на ежедневных политзанятиях в воинских частях, не говоря уже о всевозможных политигрищах партхозактива, четверть века подряд опытнейшие мастера снова и снова лепили Сахарова в полный рост.
Настоящая фамилия, сами понимаете, Цукерман. Естественно, горький пьяница. Пить приучила, конечно, жена по заданию империалистических разведок. Она же (и я читал это своими глазами в толстенной книжке, выходившей несколькими изданиями, умопомрачительными тиражами!), она же, зловредная супруга, тоже с кошмарной фамилией, обучает Сахарова ругаться матом — и бьет палкой, если он не выучит очередного урока.
(Вернувшись из ссылки, А. Д., говорят, сочинителю книжки публично врезал. Завидел, подошел: «Извините, я вам должен дать пощечину» — и дал. Объяснив, что за жену.)
Как обычно, пользы от этих усилий воображения было — чуть. Гораздо сильней действовала на людей самая обыкновенная правда. Люди же умеют считать: лауреат Сталинской, да двух Ленинских, да трижды Герой Труда и, ко всему, академик, — это же какая прорва деньжищ! это же, выходит, всё у человека есть, а он еще чем-то недоволен! совсем, значит, стыд потерял!
Если бы ГБ догадалась еще рассказать, что он сделал со своим богачеством, — никаких и политинформаций дальнейших не понадобилось бы: сорную траву — с поля вон, и доколе терпеть.
А так — терпели: начальству все-таки видней. Но клеймили от чистого сердца:
«Мы, хлеборобы, единодушно поддерживаем осуждение Сахарова крупными учеными нашей Советской Родины и выражаем свое резкое возмущение его поступками и словами…»
«Мы, представители многотысячного коллектива рабочих Автозавода имени И. А. Лихачева, как и все люди труда нашей страны, возмущены и решительно осуждаем недостойное поведение Сахарова, клевещущего на наш государственный и общественный строй…»
Меня не так удивляет, что А. Д. отказался от денег, как трогает, что он об этом пожалел: «…я под влиянием импульсов, представляющихся мне сейчас несостоятельными, передал в фонд государства (на строительство онкологической больницы и в Красный Крест) почти все свои сбережения. Я не имел в то время личных контактов с нуждающимися в помощи людьми. Сейчас, постоянно видя вокруг себя людей, нуждающихся не только в защите, но и в материальной помощи, я часто сожалею о своем слишком поспешном поступке».
В общем, это был конфликт Совести и Зависти. С исходом предрешенным, как в романе «Идиот». Противопоставил себя человек своему народу. И ему показали кузькину мать. И привели в состояние памятника.
Это удобно. Потому как правильно сказал один министр еще в 1960-е: Сахаров крупный ученый, и мы его хорошо наградили, но политик он шалавый.
Афганскую войну считал, видите ли, преступной, — а что сказал бы про чеченскую?
А ведь сказал бы непременно. Говорил бы каждый день. И не только про нее. Навряд ли занялся бы, как подобает великому человеку, чем-нибудь серьезным, конструктивным, типа за что нам любить евреев. А полез бы опять к руководству с такими идеями, которые оно видело именно в гробу.
Впрочем, одна из этих идей — чуть ли не самая главная — осуществилась, но как пародия. Конвергенция, мы как раз при ней живем: социализм переродился в капитализм, полностью сохранив злокачественность.
История не утешает. А. Д. утешался космологией. Перечитаем Нобелевскую лекцию:
«В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более „удачные“, чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более „удачные“, должны существовать бесконечное число раз на „предыдущих“ и „последующих“ к нашему миру листах книги Вселенной».
Вместе с тем он почему-то полагал, что мы все равно не имеем права на полный кретинизм, а обязаны осуществлять требования Разума.
22 июня 2004
19 июня Василю Быкову исполнилось бы 80 (только!) лет. Но не исполнилось: 22-го — год, как он скончался.
В школьной программе он числится нынче писателем иностранным — и совершенно напрасно. Мир знает Василя Быкова по русским текстам и переводам с них, а русские тексты почти всех своих романов создавал он сам.
Не знаю, на каком языке он думал, но его сочинения освещают нечто важное в русском образе мыслей, не вытесненное советским: гордое терпенье мучеников, жертвенный идеализм героев.
Потомкам нелегко будет понять, за что так ненавидело книги Быкова политическое начальство. Почему газеты честили его последними словами, типа «абстрактный гуманизм» (обозначавшими одну из опаснейших ересей: отсюда и до «общечеловеческих ценностей» рукой подать).
А между тем был момент — году так в 1971-м, между «Сотниковым» и «Дожить до рассвета», в аккурат по случаю «Обелиска», — когда в ЦК правящей партии всерьез решали: не закрыть ли Быкова совсем, наглухо, как Солженицына? Но победил проект прогрессивный, хитроумный: как следует припугнув, тут же (конечно, если выкажет покорность) расхвалить и наградить. Покорность Быков выказал, раз в жизни унизился: напечатал отповедь немецкой какой-то критикессе: увольте, дескать, меня от ваших сомнительных комплиментов, уважаемая фрау, — никакой я не экзистенциалист, а, наоборот, самый настоящий советский писатель-фронтовик, и с пресловутым Сартром ничего общего иметь не желаю. И ему дали Государственную премию.
Но работать хуже он не стал — просто как бы приостановил социальный анализ на достигнутом в «Сотникове».
Быков и в самом деле не был никакой экзистенциалист. И если посматривал на кого из западных, то уж никак, действительно, не на Сартра — на Хемингуэя: рукописный перевод «По ком звонит колокол» бродил по Союзу, как призрак.
Быков писал о том, как ведут себя люди в смертельной опасности, в безвыходном положении, в предпоследнюю, все решающую минуту. Снова и снова воспроизводил, из романа в роман, два типа поведения, две программы. В каждого из людей вставлен — неизвестно кем — предохранитель от моральной смерти (так называемая честь; Быков этим словом не пользуется). И другой, природный — категорическое несогласие организма не существовать. Быков задает персонажам выбор: смерть физическая или моральная, третьего не дано. И в некоторых перегорает один предохранитель, а в некоторых — другой. От чего это зависит — загадка. Исход — в любом отдельном случае — непредсказуем. Несомненно — хоть и парадоксально, — что так называемая храбрость выглядит не только привлекательней, но и понятней, даже как бы естественней, чем так называемая трусость. То есть писатель устанавливает с читателем взаимопонимание благородных людей, часто — назло персонажам (см. хотя бы пересуды о Ляховиче в «Круглянском мосте»). То есть эта проза — того же материала и качества, что первый предохранитель.
А поскольку она состоит сплошь из поступков, причем роковых, да из пронзительно-четкой топографии, — оторваться невозможно.
Так что Василь Быков не просто настоящий писатель. Он писатель надолго. Классик, вечный инакомыслящий, храбрец на войне и в жизни.
Не случайно он единственный громко назвал преступление века — преступлением века. Спас честь русской литературы, чью славу составлял.
15 июля 2004
Сто лет назад была эта ночь — в Баденвайлере, душная, с молниями в разогретом густом тумане, — когда Чехов, почувствовав на груди тяжесть колотого льда, сказал жене: «Не надо… Пустому сердцу не надо льду…» — и через несколько минут врачу: «Ich sterbe!»
Всего сто лёт назад. Период вполне умопостигаемый. Например, так: если вы, мой читатель, разменяли пятый десяток, то, значит, в 1904 году все четверо ваших прадедушек уже были, скорей всего, знакомы с вашими прабабушками. Возможно, кто-то из них читал хотя бы «Каштанку» или «Белолобого», и, узнав, что Чехов умер, — пожалел.
Да, ваших собственных прабабушек и прадедушек (скажем аккуратней: их современников) антропологический словарь — вот что такое эти восемнадцать томов. Сотни фигур в тысячах положений. Реальные люди узнавали себя, знакомых, обстоятельства, привычки, речевые обороты — то есть считали литературу Чехова очень похожей, всерьез похожей на свою жизнь, на проживаемое ими время, — за это, собственно, и любили. Наполовину за это. За резкую наблюдательность, превращенную как бы в ясновидение: когда сквозь персонажа просвечивает, как на Страшном суде, его последняя цена, — притом что все (как и читатель, как и зритель пьес) — ассортимент одной и той же бракодельной фабрики.
Которую, как известно, вскоре взорвали. А продукцию изъяли из обращения, потом планомерно ликвидировали.