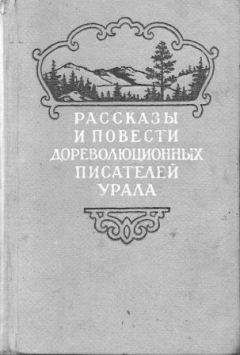В зале поначалу было шумновато: всем хотелось знать, кто и что этот парнишка и с чем-зачем он вышел на сцену. Но постепенно шум начал стихать, зал чем дальше, тем внимательней стал прислушиваться к тому, что он говорил.
— Мне тогда было лет девять, и жил я с матерью в ткацком поселке. Маленьком таком, глухом, с одной фабрикой и станцией, где останавливался один поезд в сутки. Ну, сами догадывайтесь, война тогда была. Поселок затемнен, холодно, голодно, ткачихи по двенадцать-восемнадцать часов из цехов не выходят... Клуб был — кубическое, очень неуютное сооружение. Не отапливалось, конечно. И вот там наша школьная самодеятельность давала концерт.
В огромном зале установилась полная тишина. Паренек говорил все так же ровно, не давая никакой эмоциональной окраски произносимым словам, но голос его как бы крепчал, набирал силу.
— Собрались ткачихи — полный зал, сидели в пальто, в платках. Мужчин — ни одного. Воздух в клубе от дыхания отсырел и пахнуть стало, как в ткацком цехе — жирной влагой, хлопчаткой. Старшеклассники разыграли какую-то партизанскую пьесу, спели про синий платочек, поплясали, а потом вышел на сцену я. Что такое было тогда это “я”? Востроносая синюшная рожица, тонкая шея в хомуте широченного воротника, огромные валенки с голенищами раструбом... Петь мне нужно было какую-то артековскую песенку, слова которой и сейчас не помню и тогда забыл, как только очутился перед залом. Учительница пения пробренчала на промерзшем клубном роялишке вступление, а я молчу. Она опять дала вступление — молчу. Учительница старается подсказать мне слова, шипит что-то по-гусиному, но я уж ничего не воспринимаю, обалдел совсем от стыда и вдруг, не знаю сам как, запел без сопровождения первое, что пришло в голову. “Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет я остался сиротою, счастья-доли мне нет...” Учительница убежала. В зале тишина стоит мертвая, и только голосочек мой слабенько вызванивает: “Вот умру я, умру...” Слышу, в зале женщины начали всхлипывать. А когда я спел про могилку, на которую, знать, никто не придет, ударились все в голос. Никаких аплодисментов мне не было, и бисов не было, но знаете, что женщины кричали из зала? “Ничего, — кричат, — малец, не пропадешь с нами, прокормим, не бросим...” И все в таком духе. Мы с матерью были эвакуированные, почти никто не знал нас в поселке, и ткачихи приняли меня за настоящего сироту. Вот вам и голос... Не голос пел, а горе. А оно жило тогда в каждом сердце...
Литературный вечер, которым было отмечено 75-летие прекрасного русского художника слова Сергея Никитина, состоялся в граде Коврове.
Читал отрывок из рассказа в завершение вечера тоже Сергей и тоже Никитин — внук писателя.
В афише на стене дворца культуры Сергей Константинович был поименован русским советским писателем, и, наверное, справедливо: именно тогда, при Советах, основой жизни нашего общества был великий гуманистический закон — один за всех и все за одного, никого мы не бросали и вместе не пропали.
А на вечере больше всех переживала и больше всех радовалась его успешному завершению Клара Михайловна — жена и верный друг Сергея Никитина. К тому же ценой огромных усилий ей удалось издать к юбилею богато иллюстрированное линогравюрами замечательного владимирского художника Бориса Французова “Избранное” супруга. И как тут не радоваться?!
Поздравляем вас, Клара Михайловна, и радуемся вместе с вами!
О.Чубайс • Загадка «Ю. Пи.» (Наш современник N1 2002)
Среди русских художников
Олег Чубайс
Загадка “Ю. Пи.”
Г. Нью-Йорк. Манхеттен.
...опрокинув стул, дверь с грохотом открылась. На пороге материализовалась долговязая и длинноносая фигура Лешки Ланина. Как раз в этот момент я смаковал последний глоток ароматного зеленого чая из голубой китайской пиалки.
Швырнув на диван спортивную сумку, Леха заорал:
— Даешь Стравинского!
Я уже давно привык ко всем этим Лешкиным приколам и поэтому никак не прореагировал на его ор — спокойно допил свой чай, поставил на место упавший стул и включил электрочайник.
— Чай будешь? Зеленый! В такую жару — самое оно!
— Фу! — Леха брезгливо сморщил свою длинную буратинскую принадлежность и шлепнулся на диван:
— Тебе бы еще ватный халат и чалму...
Он выудил из сумки темную бутылочку “Бекса”, ловко скрутил крышку и, обхватив тонкими губами горлышко, зараз выдул чуть ли не все пиво.
— Уф-ф!... Вот это сейчас самое оно! — Он посмотрел бутылку на свет, снова приложился и швырнул пустую тару в пластиковое мусорное ведро. — Короче, рассказываю...
Лешка уже второй год работает бартендером в престижном ресторанчике Гринвич-вилладжа, где постоянно тусуется хиппового вида молодежь, заглядывают артисты, художники, критики, с которыми Леха на дружеской ноге. Здесь же часто дают концерты известные музыкальные группы. Словом, место это веселое и шумное, то есть абсолютно не подходящее моему образу жизни. А Леха чувствует себя за баром, словно рыба в аквариуме, хватая, как корм на лету, всякие пикантные сплетни, сомнительные новости и скандальные истории. Это была его среда. Он и сам увлекался живописью, коллекционировал русский авангард, писал неплохие натюрморты и даже участвовал в нескольких выставках, на одной из которых мы и познакомились.
Оказалось, что мы одинаково любим старую русскую живопись и одинаково возмущены отношением к ней здесь, в Штатах. То есть никакого отношения вообще не было. Ее просто не замечали. Не замечали Репина, Шишкина, Сурикова... Да, Малевич, Кандинский и еще пара-тройка художников-авангардистов 20—30-х годов пользовались определенным спросом, а вот наши знаменитые художники-реалисты... Нет, их просто не замечали. А возможно, даже и не знали об их существовании...
Тогда-то мы и решили организовать Клуб русского искусства в Нью-Йорке, чтобы хоть как-то заинтересовать прагматичных американских коллекционеров и галерейщиков работами из России..
Начали с того, что сняли студию на Восточной 27-й улице и оборудовали ее под офис; поставили купленный по дешевке письменный стол и найденный старый диван, на полках разместили каталоги аукционов, монографии художников, расставили различную справочную литературу. Чтобы начать дело, оставалось немногое — приобрести картины.
В 80-е годы в антикварных лавках и на “блошиных” рынках Америки можно было, покопавшись, отыскать немало работ, привезенных старыми русскими эмигрантами. Попадались и Суриков, и Коровин, и Вeщилов, и Серов... Просили за них недорого. Больше того, продавцы-”знатоки” частенько были, как говорится, “не в материале”, выдавая, например, Куинджи за “известного греческого художника”, а Левитана за мастера “финского пейзажа”.
Мы оседлали наши старенькие машины и рванули по городам и весям Соединенных Штатов. Очень скоро у нас появилась приличная коллекция русских работ. Развешивая их по стенам, мы с Ланиным обхохатывались, вспоминая цены, за которые их приобрели. Но скоро нам стало грустно. И обидно. Все наши выставки с треском проваливались одна за другой. Лешкины знакомые по бару искусствоведы были или холодно вежливы, или вообще не приходили, коллекционеры дружно кивали, слушая наши рассказы про художников-передвижников, но — никто ничего не покупал. Галерейщики, так те сразу переводили разговор на авангард, супрематизм и тому подобное. Короче, мы горели, и надо было что-то срочно решать; все наши денежные запасы были на исходе. И мы решили... Да, решили все наши сокровища отвезти в Россию! Там, на волне разворачивающихся “реформ” и жуткой инфляции, “новые россияне” непрочь были вложить свой “черный нал” в произведения искусства. Затея удалась! Ну и пусть, что покупают эти “новые”, пусть платят своим “неотмытым” капиталом, зато наши маленькие шедевры возвращались к себе домой.
Мы съездили еще раз... И еще... Все шло нарасхват, наш бизнес пошел в гору. И клуб наш стал как бы второй работой. В газетах появились наши рекламные объявления о покупке, экспертизе и оценке произведений русского искусства, каждый день дежурили в клубе по очереди, завели знакомства с владельцами многих галерей. Нам звонили, спрашивали, советовались... Так мы с Ланиным стали “специалистами” по русскому искусству...
...— Короче, рассказываю! — Лешка открыл вторую бутылку. — Вчера вечером подсел ко мне за бар этот польский бык, ну ты знаешь его, галерейщик из Сохо...
— Пан Дымба?
— Он самый! Заказывает кружку пива и спрашивает, не интересуюсь ли я портретом Стравинского...