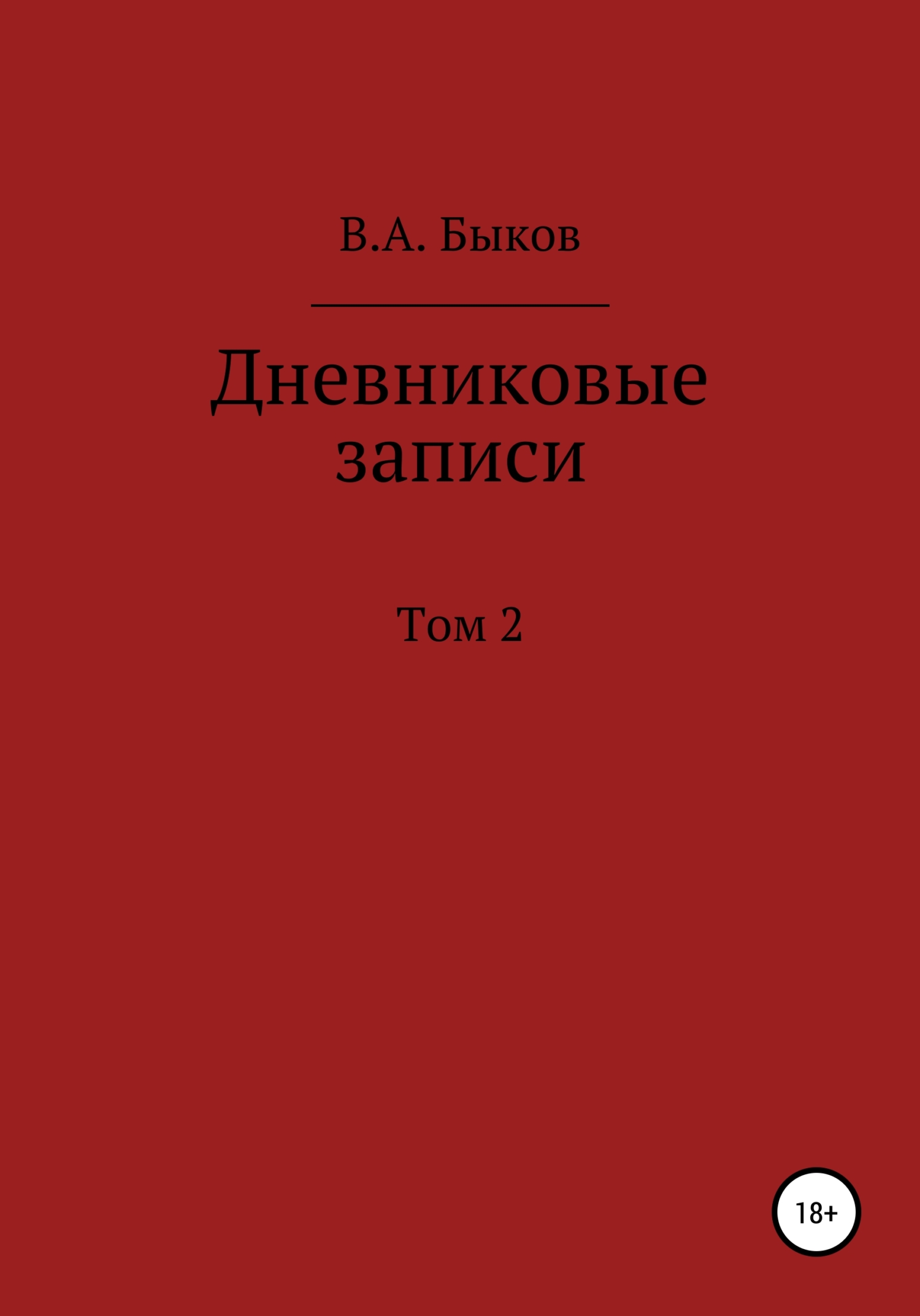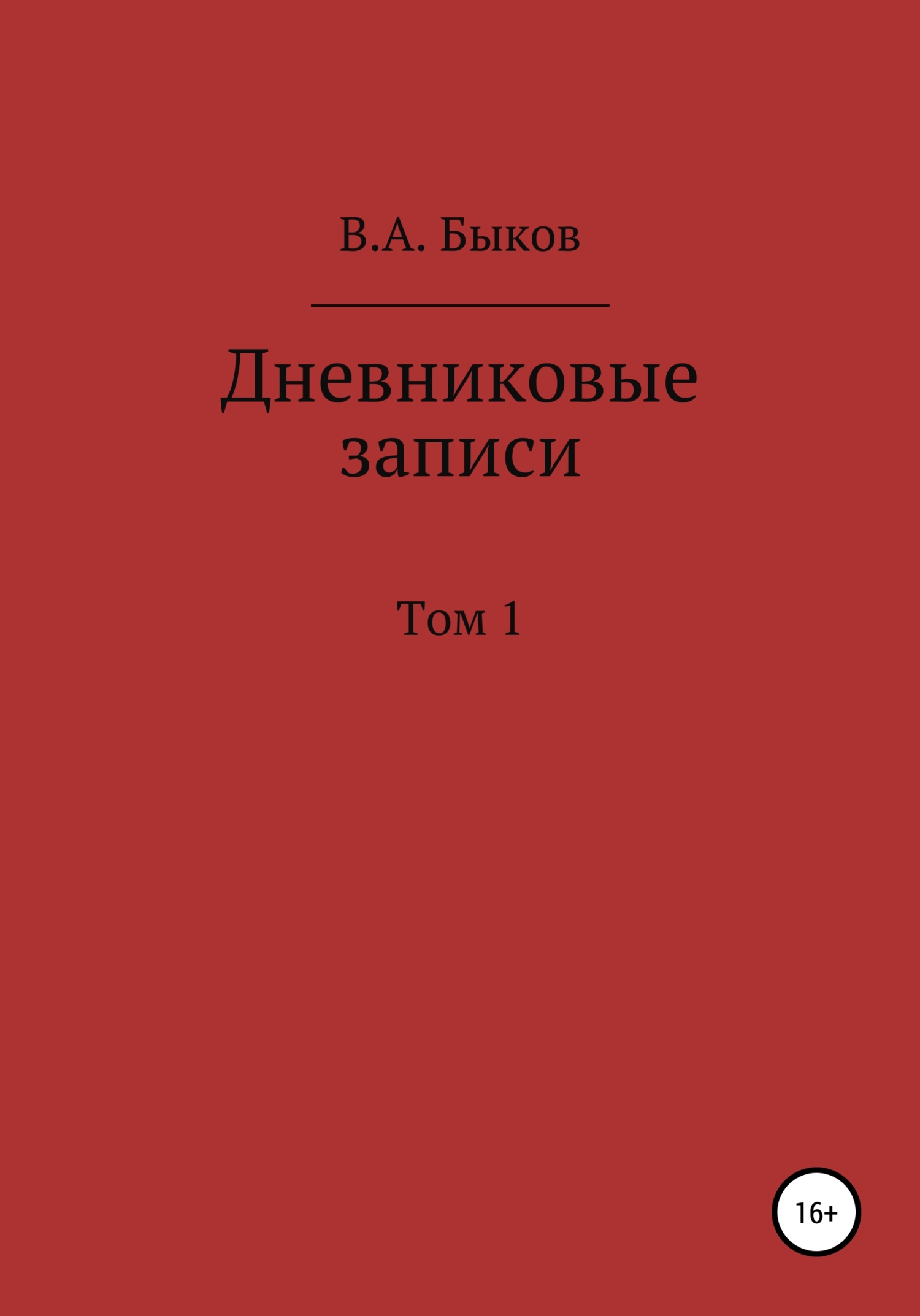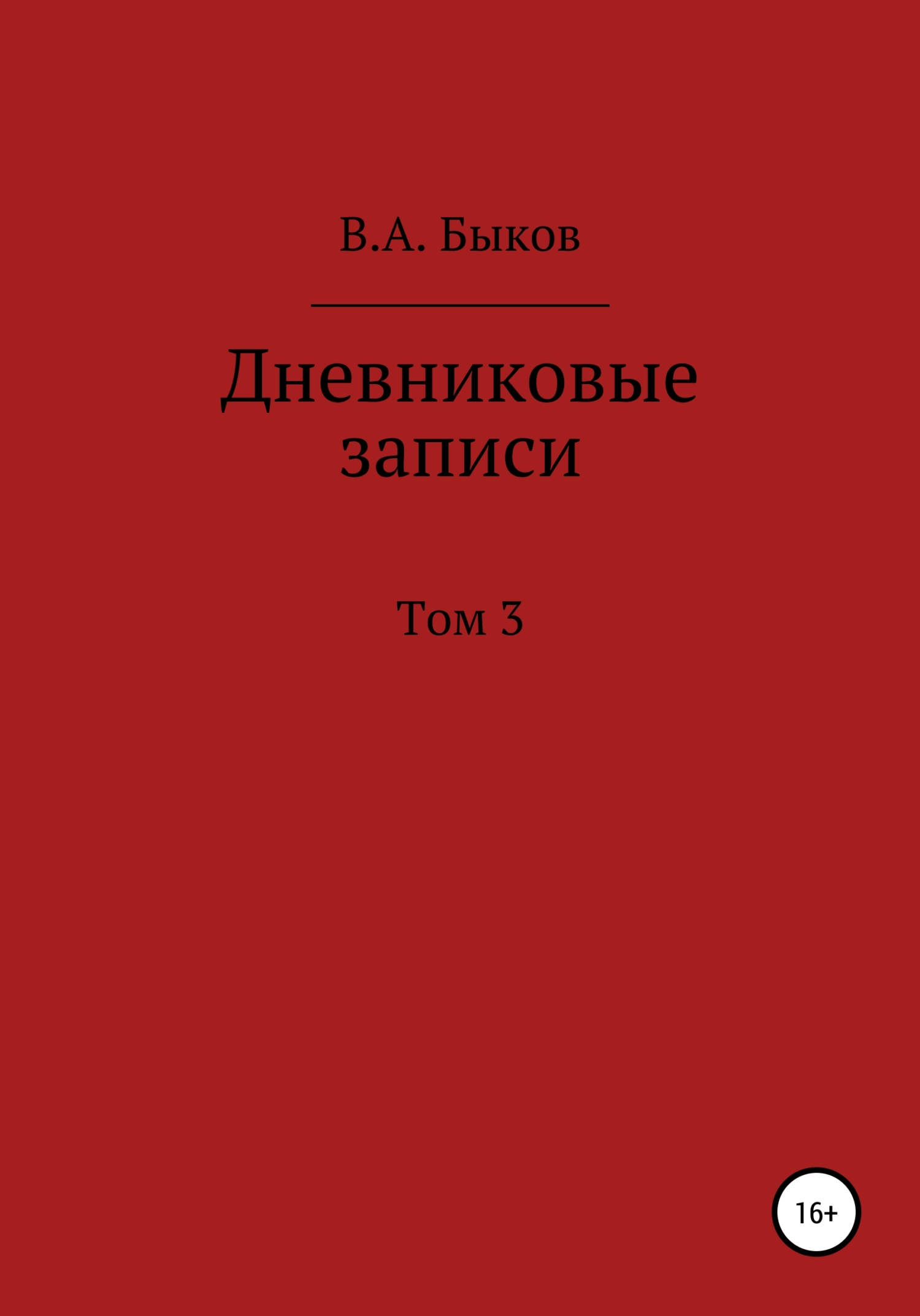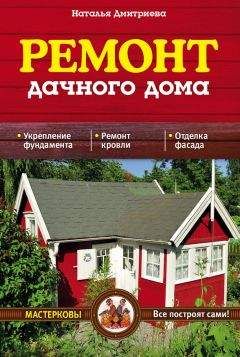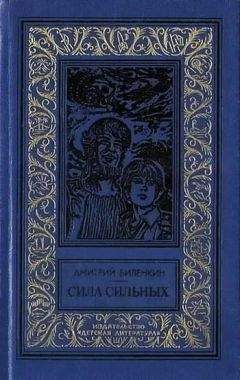ней.
На остановке дрезина, с крытым верхом, размерами много меньшими полуторки, а людей, в основном баб, человек двадцать, а теперь еще и нас со шмотками четверо. Никак, думаю, не разместимся. Появляется машинист. Мощная фигура дышащего здоровьем и породистой красотой мужика. Мы к нему с просьбой.
– Ну, куда я вас помещу, не оставлю же я своих местных? – отвечает.
– Поместимся, посадим баб на колени, как-то в аналогичной ситуации, нас двадцать человек влезло в одно купе, а здесь у тебя раза в полтора больше. Влезем, – уверенно заявляем, и для пущего убеждения… показываем на мой рюкзак. Машет рукой, куда, дескать, от вас денешься. И точно, ведь влазим, правда кто поменьше, не только на коленях, но и на плечах сидят друг у друга. Я оказываюсь рядом с машинистом, прижатый к его креслу, с рюкзаком за плечами и с поднятой рукой, в которой у меня чеплашка с малиной, собранной возле остановки при «обследовании» путей узкоколейки. Они тогда доставили мне не меньшее удивление, чем все остальное. Пути из прямых (а если где слегка изогнутых, то не в ту сторону) кусков рельсов 4 – 6 метровой длины свинченных, как попало, под углом аж до 5-ти градусов между собой в обеих плоскостях. Представляю как это по ним, с какими ударами будет ехать дрезина.
Она трогается, набирает скорость и по мере возрастания последней, увеличивается до предела раскачка нашего вагончика, готового вылететь с рельсов даже на «прямом» участке путей, а уж на поворотах – тем более. Через пятнадцать минут, как бы устав от такой качки, она останавливается… но, оказывается, – совсем по другой причине. Машинист, показывая на рюкзак одной рукой, вытаскивает второй из своего бардачка граненый стакан и протягивает его мне. Я прошу стоящего сзади Вараксина достать из рюкзака фляжку. Беру ее свободной рукой и наливаю содержимое в протянутый мне стакан до половины. Показывает – надо еще. Наливаю три четверти. Снова – еще. Наливаю полный. Он выпивает чистейший спирт, как воду, – не морщась, не крякая. В довершение, после паузы, протягивает руку к чеплашке и артистически берет из нее для «закуски» одну малининку. На половине пути останавливает дрезину вновь… И мы повторяем с ним, один к одному, предыдущую операцию, затверждая тем (как я постановил для себя по первому взгляду) горняцко-шахтерское его происхождение.
Еще через полчаса, радуясь, что по дороге с путей не слетели и не перевернулись, – останавливаемся. Судя по реакции пассажиров, на конечной остановке… и основательно. Я выхожу из дрезины последним, а за мной буквально вываливается из нее и падает на землю наш машинист. В таком состоянии мы и оставляем его – теперь в окружении новой толпы для обратного с ним рейса. Когда и как он, этот рейс, состоялся – так мы и не узнали, но еще долго, в ожидании большого поезда, обсуждали поездку и нового знакомца…
Какова же наша жизнь! Красивый, здоровый мужик, и полная неспособность к разумному самоограничению. А может игра, впечатляющая демонстрация так и прущей пока из тела силы? Но чем может закончиться, остановится он вовремя или сгинет, как многие из его собратьев?
Конечно, и мы с друзьями (и остальные) в этой сцене оказались не на высоте. Могли ведь остановить, вразумить, и не без оснований. Транспорт, какая ни есть, но действующая железная дорога, куча людей, да еще и при исполнении служебных обязанностей, Но, как можно? Когда Русь – матушка, широта души… и неодолимая у нашего человека страсть к свободе!
07.02
Получил письмо от Ильи Блехмана. Привожу мой ответ.
«Дорогой Илья! Если тебя «обрадовало и взволновало» мое предыдущее письмо от 04.01, то уж твое – тем более. Ибо я излагал как бы личные соображения по вопросам, связанным с прочтением вашей «Прикладной математики», от тебя же получил чуть ли не полное их подтверждение. А ведь ничто не доставляет большую удовлетворенность, чем это подтверждение наших взглядов другим человеком, особо, хорошо известным и тобой уважаемым. Естественно при этом, все отнесенное тобой к якобы критике вашего труда, я не принимаю: то была не критика, а только констатация отдельных подходов к рассматриваемой проблеме, основанная на моем частном опыте.
Любезно присланная статья Арнольда, доставила мне тоже большое удовольствие и, кроме удовлетворенности (от совпадения наших с ним взглядов на управление и прочие «деяния»), подтвердила давно подмеченную «тесноту мира». Витте, не меньший, чем Арнольда, мой кумир! Тем не менее, в силу зловредности, не могу тут не уточнить, и еще раз не повторить свое отношение к математике. Не математическое образование само по себе, как у Арнольда, а именно природная вооруженность чувством здравого смысла (которого придерживаемся, вроде, и мы с тобой) обеспечила правильное понимание Витте законов жизни и соответствующее тому принятие нужных, аналитически взвешенных и логически выдержанных, решений. Здравый смысл определяет любовь конкретного человека к математике, хотя, конечно же, в какой-то степени имеет место и обратное. Отсюда и мой гимн последней, приведенный в прошлом письме. Математика с ее абстрактным восприятием и железной логикой в данном случае лишь очень корректно и доказательно защищает (подчеркивает) принцип здравого смысла, а тот, в свою очередь, позволяет более эффективно использовать математику по делу. Или, по твоему с Эйнштейном мнению, – применять ее менее «строго», а по Арнольду, – выстраивать «мягкое моделирование».
Ты упомянул журнал «Природа». Я тут же достал из своего, еще с советских времен, архива два десятка этих журналов и, для начала, быстренько перелистал оглавления. К сожалению, не нашел в них твоего и Арнольда имен. Но сколько там других, мной любимых! Спасибо тебе за невольную адресацию к данному чтиву, из которого много тогда было пропущено по причине большой занятости работой.
Пиши, жду. Общение с тобой радость, подобная, разве, той, что я испытывал ранее только еще от Соколовского. Боже, какими же были прекрасными, наполненными полнейшим единодушием, дни нашей совместной учебы.
Привет твоему семейству. Бывай здоров и весел. Всегда твой. В. Быков».
10.02
«Илья! В последнем письме я бросил реплику о «тесноте мира», но, упомянув в конце Соколовского, из-за отсутствия времени не успел им подкрепить дополнительно упомянутую «тесноту». А дело в том, что как раз в те дни занимался подготовкой для журнала «Конверсия» обещанной подборки серии коротких очерков о своих учителях и коллегах, у которых учился и с которыми работал на Уралмаше. Так не знаменательно ли: я сочиняю эти очерки, и как раз о Соколовском, а тут твои теплые о нем воспоминаниями?… Сейчас я разделался с редакцией журнала