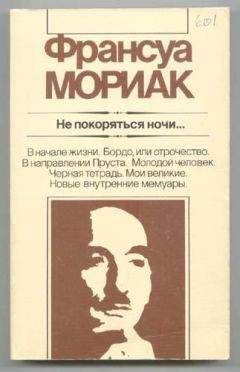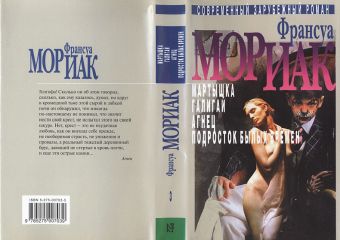За рощицей начинаются просторные службы, тут скотный двор, конюшня, помещения для возчиков. С какой стати деду моему вздумалось возвести этот нелепый дом — шале во вкусе делового человека, — вытянутый в высоту, виднеющийся за десять миль в окружности, нависший над моим домом, придавливающий его. Один крестьянин говаривал некогда, что из-за этого дома Малагар похож на «baque escornade» (на местном наречии — однорогая корова).
Мы выходим к жилому дому, расположенному с северной стороны. Крыльца нет. В большинстве романов я без тени смущения пристраиваю его к дому. Переделка воображаемая, ничего не стоит. В реальности я довольствуюсь цветником, разбитым по сторонам входной двери и обсаженным шалфеем. Фасад гладкий, единственное украшение дома — черепицы, выложенные вдоль края крыши фигурно, «по-генуэзски», как во Всех усадебных домах на Юге (но здесь эта кладка не зовется генуэзской). Мой дед накрыл главный флигель громоздким шиферным колпаком. Благодарение богу, на боковых флигелях, на винохранилище и прачечной уцелела старинная закругленная черепица. Эдуар Бурде сказал мне: «Первым долгом я велел бы убрать этот шифер». Но я не причиню подобного огорчения манам * моего деда, который потратил столько трудов, чтобы перерядить свой дом в замок (даже велел пристроить сбоку башенку). Убрать шифер? Мне не хочется, чтобы соседи-крестьяне считали меня сумасшедшим.
Со стороны дома большой луг полого спускается к холмам Беножа, последним, что вздымаются в этом глухом краю, именуемым «междуморьем»; мне кажется, я любил бы его, даже если б он не был так дорог моей бабке и матери, даже если б он не пленил Андре Лафона и мой друг не грезил бы им в 1915 году, дрожа в палатке Сужского лагеря *. «Луг — и на нем, быть может, стога; спящие дороги, над ними, верно, все последние вечера бодрствовала луна...» — писал он мне в одном из последних писем.
Слева, к западу, простирается виноградник в сонном оцепенении сиесты или в надвигающихся сумерках; виноградник, для меня — живой, счастливый, страдающий, прижимающий к себе свои гроздья; ему угрожают тысячи опасностей: бури, град, зной, дождь, не говоря уж о болезнях, не менее многочисленных, чем те, что поражают род людской. Владелец не может смотреть на него тем же взглядом, каким окинет его равнодушный гость.
Минуем переднюю, где, как все дети в пору летних каникул, мои, расположившись на диване, выжидают, пока спадет зной. На юге двор пышет жаром меж длинными и низкими винохранилищами. Два столба отграничивают панораму, составляющую гордость Малагара; аллеи старых грабов спускаются к площадке, откуда видны Сен-Макер, Лангон, Ланды, Сотернский край. Сколько раз описывал я эту долину, «что лето бредом горячит своим»! Эти солнечные отсветы на черепицах и виноградных листьях, это оцепенелое безмолвие — существует ли это все «само по себе»? В этот пейзаж вглядывалось так много людей, любимых мною или мною выдуманных, что он стал в глазах моих очеловеченным, слишком уж очеловеченным, и обожествленным также. Мне видятся под землею кости моих близких, что в ней покоятся, а за стенами скромных церквушек, колокольни которых размечают вехами берега невидимой отсюда реки, — маленькие живые гостии *.
Что ж! Отважусь высказать то, что думаю: для меня этот пейзаж — самый прекрасный в мире, трепещущий, родной, единственный, кому ведомо то, что знаю я, единственный, кому вспоминаются истлевшие лица тех, о ком я ни с кем больше не говорю, но чье дыхание приносит мне ветер в сумерках после знойного дня — живое теплое дыхание творения божия (словно поцелуй матери). О земля, которая дышит!
Справа от грабовых аллей купы деревьев: старые самшиты, лавры отделяют их от прокаленного солнцем виноградника. Слева плодовый сад, липовая аллея, которая тянется, сколько хватает взгляда. Вернемся в дом. Вот выходящая в переднюю просторная комната, где я обосновался, где жужжат мухи и от стен тянет запахом известки. Я часто описывал («Клубок змей») эту мебель — красное дерево, палисандр, эти безделушки, которые оставляло после себя каждое поколение, подобно тому как каждый прилив оставляет все новые и новые раковины на морском берегу... Лучшего места для работы не придумать; сущая «теплица» специально для романиста, где книги созревают за три недели, где, подхлестываемый моим демоном, я пишу так быстро, что если не диктую, то вечером даже не успеваю перечитывать написанное после обеда. В этой комнате я буду жить, когда останусь в доме один, потому что дети к началу учебного года вернутся в Париж; и осенью буду сидеть здесь, в четырех стенах, долгими дождливыми вечерами, пропахшими виноградными выжимками, молодым вином, туманом.
Таков Малагар. И страницы эти — свидетельство, что мне не по силам дать бесстрастное его описание; впрочем, разве удавалось мне хоть что-нибудь описать, если при этом я не зажмуривал глаз? Мне остается надеяться, что неизвестные друзья, которые взберутся когда-нибудь на этот холм, без малейшего труда проникнутся моим взглядом на вещи и смогут тогда постичь дух старой усадьбы. Раз уж сила их воображения позволяет им находить удовольствие в жалких моих вымыслах, они сумеют не поверить даже собственным глазам и подменят чрезмерную реальность всей этой сельской обстановки непритязательным волшебством того мира, в котором герои мои любят, страдают и умирают в одиночестве. Точно так же, как и мне самому, моим читателям Малагар не покажется таким, каков он есть. Они увидят здесь то, чего не увидеть другим. Даже после моей смерти, покуда останется на земле хоть один человек, который любит мои книги, Малагар будет трепетать затаенной жизнью... Но вот и последний мой поклонник уснет вечным сном. Тогда Малагар снова станет земельным угодьем площадью в двадцать гектаров, которое засажено виноградниками в отличном состоянии и расположено в Сен-Мексанском округе, в сорока километрах от Бордо; из местного винограда производится хорошее вино, по вкусовым качествам сходное с сотерном, хотя и не имеющее права на это название. Великолепный вид на долину Гаронны; дом усадебного типа; бескрайние луга... Сколько раз виделся мне в воображении, когда я писал о жизни за городом, розовый листок, объявление о продаже, в которое вчитывается разбогатевший делец!
В защиту «Кармен»
Подобно тому как существует ложная деликатность, существует и ложная вульгарность. «Кармен» — типический пример произведения ложно вульгарного. Это ловушка для тех, кто мнит, что обладает изысканным вкусом, и любой музыкант эту ловушку сразу чует: я не знаю среди них никого, кто не отводил бы «Кармен» подобающего ей места.
Но нет шедевра, с которым обращались бы непочтительнее. Когда в мою бытность студентом я слушал эту оперу в Большом театре Бордо, спектакли казались мне смешными из-за резавшего уши акцента «табачниц смуглых» и «солдатиков». Теперь, по прошествии многих лет, я обнаруживаю, что в этом театре «Кармен» игралась именно так, как должно, в радостном опьянении, средь запахов жасмина и бойни, перед публикой, которая привыкла летними воскресеньями выкрикивать приветствия матадорам в сверкающих костюмах, когда они проезжали по улицам в старых викториях, направляясь к арене. Во втором акте совсем юная танцовщица Режина Баде плясала на столе в posada 1, разгоряченная рукоплесканиями статистов и зрителей.
Кармен была нам знакома: с теми же лоснящимися завитками на висках и с цветком гвоздики в прическе она торговала аркашонскими сардинами на улице Сент-Катрин в окружении поджарых и опасных проходимцев. Сцена была продолжением улицы: Эскамильо для нас носил имя Гериты, Маццантини, Реверте, Альгавено, Фуэнтеса, Гамбиты — всех diestros 2, которым мы поклонялись, пока длилась temporada 3.
И «хитана» воистину была воплощением той страсти, против которой предостерегали нас в коллеже благочестивые преподаватели: дурная женщина, погибшее создание, ради которой солдаты дезертируют и становятся убийцами, и проповедник, в конце учебного года призывавший нас избегать соблазнов, нарисовал нам истинный ее портрет:
Арестуйте меня:
Пред вами ее убийца!
Ах, Кармен,
Ты моя теперь навеки!
Кармен! 4
1 Таверна (исп.).
2 Тореро (исп.).
3 Сезон (исп.).
4 Клавир в переводе А. Горчаковой, редакция Большого театра СССР. Оперные либретто. Кармен. Ж. Бизе. М., «Музыка», 1979.
По окончании спектакля я ненадолго останавливался под портиком — помечтать. Ветер из Испании уныло гнал пыль По аллеям Турни; крупные капли дождя разбивались о мостовую.
Переполненный этими воспоминаниями, я сказал своим детям: «Вам надо бы послушать «Кармен»!» И вот однажды субботним вечером мы отправились в Комическую Оперу. Я заранее упивался их радостью. Я уже описал им первый акт с его многолюдьем, площадь испанского города, прокаленную солнцем, караульню, где верхом на стульях восседают солдаты, сигарную фабрику, смену караула и мальчишек, которые с пеньем маршируют по сцене, и табачниц, вцепившихся друг дружке в косы, и Кармен — ее одежда в беспорядке, сорочка разодрана, на белоснежном плече кровь. Я предсказывал восторг зрителей, неистовство галерки, вызывающей певцов на бис после каждой арии!