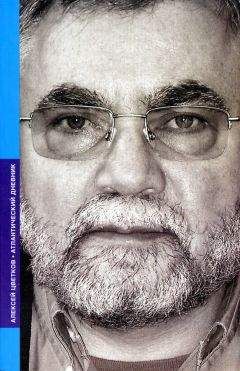Текст Кравченко кажется странноватым вот почему: в нем почти отсутствует рефлексия. Вместо рефлексии - наблюдение. Повествователь - он же единственно действующее лицо, ему продвигаться дальше надо на своей лодке (вот она, грань веков, - и такой выбор человек делает: плыть не на пароходе, а самостоятельно, на лодке), а не рефлексировать.
Совершенно неожиданно к “робинзоиду” Владимиру Кравченко примыкает в номере Олеся Николаева, писатель того же поколения, но другой стилистики, автор других - затейливых и лукавых - композиций. Путешествие - не внутри России, а за границу. Но - не за границу православия (“Корфу”). За впечатлениями о чудесном, чуть ли не райском острове вторым, а на самом деле “спрятанным первым” проходит история выбора. Еще одна разновидность путешествия, разновидность жанра: через путь в “другое” - путь к себе. Динамика путешествия вызывает в сознании “жизненный путь” тогда, когда путешественник останавливается (в незнакомом месте). Тогда - есть шанс по-новому увидеть (с дистанции) самого себя. В зеркале. Можно - прихорашиваясь, а можно - как есть.
Путешествие и возвращение - вообще один из главных сюжетов мировой литературы, поэтому наши “одиссеи”, с одной стороны, просты и незатейливы, с другой - вызывают в сознании не журнал “Geo” и не глянцевые путеводители, а толщу отзывчивой на жанровое эхо словесности.
За жанром - жанр: за поездкой на “малую родину” открывается история рода (Александр Бакши), история провинции (Анатолий Курчаткин); за поездкой в Берлин - история расколотой Германии и опыт эмиграции (Ксения Кривошеина), личный опыт русского гастарбайтера в современной Европе (Марина Воронина). За картинкой фестиваля русского литературного слова в Британии - стихи об Испании (Марии Игнатьевой). О несостоявшемся, напротив, путешествии - как в Британию не пустили Владимира Маяковского (Бенгт Янгфельдт). Литературный пейзаж русскоязычной Австралии наводит на размышления, скорее печальные, чем радостные, о рассеянии русской литературы. Есть в номере и забавное повествование о поездке дипломатов в экзотическом для нас Иране (Реваз Утургаури). И писательские летучие загран-зарисовки (Анатолий Королев), и “италийские” впечатления-размышления - на утраченном вроде бы, но таком близком и пра-родном языке (священноинок Симеон Дурасов). И стихи-странствия, наследующие русской литературной традиции “дорожных” (Юлий Гуголев, Александр Танков, Максим Амелин, Олег Дозморов).
Если наши публикации откроют читателю новое и неведомое, расскажут по-новому о знакомом и присовокупят к известному сведения о жизни незнакомой, а также помогут частично овладеть внешним миром через возвращение к внутреннему, - то задачу “номера путешествий” можно считать отчасти выполненной.
Отчасти - потому что путешествие всегда продолжается.
Об авторе
| Олег Дозморов родился в 1974 году в Свердловске. Поэт. Филолог. Автор книг: “Пробел” (1999), “Стихи” (2001), “Восьмистишия” (2004), вышедших в Екатеринбурге. Стихотворные подборки печатались в журналах “Арион”, “Звезда”, “Новая юность”, “Таллинн”, “Урал”; в “Знамени” (см. 2003 N 5 и 2005 N 10). Проза нон-фикшн “Премия “Мрамор”” публиковалась в “Знамени” 2006 N 2. С сентября 2004 года живет в Москве, работает журналистом.
Олег Дозморов
Шотландия
* * *
Когда бы больше не было меня,
а были бы - за горизонтом - горы,
и ближние холмы и зеленя
ничьи бы не притягивали взоры,
когда бы круглосуточно бурун
катил, переворачивая, воды,
и анонимно средь ветвей певун
сходил с ума от страсти и свободы,
и весь, теперь действительно ничей,
мир отрицал бы наименованье,
каких ещё тебе, поэт, очей,
какой ещё поры очарованье?
* * *
Шотландский лес, шотландская река,
впадающая в Северное море,
ещё не образумились пока,
теряя время в бесконечном споре.
Здесь замка зуб действительно торчит,
как буква некоего алфавита.
Трава от слёз действительно горчит,
Мария С. - действительно убита.
* * *
Скрипит на склоне мокрая трава,
белеет цветом местная рябина,
простые парни с раннего утра
чего-то чинят, фыркает машина.
Я жил в шотландском замке тридцать дней,
сквозняк гудел в камине что торнадо,
под окнами росла скала, под ней
река бурлила бешено, как надо.
Шотландская неслась из-за окна
простая жизнь, она не прекращалась,
я радовался, если вдруг она
в какую-нибудь песню превращалась.
* * *
В дневном экспрессе Лондон-Эдинбург
не спи, раскрой какое-нибудь чтиво,
желательно попроще, например,
путеводитель “Пти Фюте”, узнай,
что в Лондоне в ближайший выходной
ты не увидишь, разверни “Тайм-аут”,
“Обсервер” или на худой конец
техническое описание
лаптопа, но его не открывай
и не проси адаптер у стюарда,
побереги до будущего счастья.
А главное - за окна не смотри.
Разглядывай присутствующих: спящих,
жующих, пьющих и читающих
простых британских граждан и гадай:
вот англосакс надменный - он по делу
в провинцию собрался, вот студент
к мамаше едет кушать сладкий пудинг,
вот эмигрант из Никарагуа,
вы с ним примерно равные в английском,
вот явно идиоты футболисты.
О, не гляди в окно, не то напишешь,
позорище, как подражатель Рейна,
пустые путевые обозренья,
о том, как пил коньяк и сколько стоил
коньяк, без слёз, без жизни, без любви.
Хоп! Мимо шелестящего экспресса -
закладывает уши, съешь конфетку,
глотни кофейной дряни из стакана
пластмассового, сбегай в туалет, -
с остатками средневековых стен,
рутиною хозяйственных построек
летят уже шотландские поля,
кровавые шотландские поляны
с пасущимися овцами. Деревня!
Шотландия моя, моя невеста!
Я б воспевал тебя, как Роберт Бёрнс,
я б пел тебе, а временами пил
твои напитки, ну же, сдвинем чарки,
не покоримся Англии вовек!
О, вымысел прекрасный, над которым
слезами обольёшься ты один.
Упейся одиночеством, возьми
носки, здесь и в июне холодрыга.
* * *
С утра был дождь, к обеду потеплело,
и я, съев ланч, оправился гулять.
Выглядывало солнце то и дело,
чтоб путнику дорогу освещать.
Лес весь темнел, ущелье угрожало
мне, оступившемуся, крутизной
провала, ничего не выражало
посвистыванье пеночки лесной.
Зачем я здесь? Что всё же разглядела
в Шотландии замолкшая душа?
На дне оврага пело и кипело,
медитативной лирикой глуша.
* * *
Покой и воля. Воля и покой.
Как сладко повторять: покой и воля.
Шотландское тревожит ветер поле,
и вьются мошки тучей над рекой.
Все превратятся в горные ручьи
весной крутые горные дороги.
Хрустя по гальке, берегите ноги,
они, однако, ваши, не ничьи.
Я жил в шотландском замке, здесь уют
не отменял суровости природы.
Шумят в ущелье дождевые воды.
Написанное не даёт уснуть.
* * *
Осматривать замок на том берегу
и древнюю церковь на этом.
В окне ресторана узнать на бегу
угрюмого дядю с приветом.
Вертеть головою, крутить объектив,
запечатлевая в натуре
гробы тамплиеров, таки сотворив
жертвоприношенье культуре.
Обедать пора, и проснуться пора,
подохнуть, перевоплотиться,
уехать осматривать Глазго с утра,
в Ньюкасле в стекле отразиться.
* * *
Холодно. Окно в библиотеке
нараспашку. Старого камина
странного гудения в том веке
вот и обнаружилась причина.
Скучно. Липы. Сны. Дагерротипы.
Синие обои полиняли.
Все, прости за рифму, прототипы
бунинской присутствуют печали.
Нас с тобой волнует ли всё это?
Мы с тоскою столько лет знакомы.
Среди всех картинок и портретов
вряд ли здесь отыщется искомый.
Я не пью, камина нет, собаки
даже в планах, мало фотографий
дома, но не избежал, однако,
извини за рифму, эпитафий.
* * *
От долгих прогулок болит голова
не меньше, чем от сновидений.
На склоне холма вырастает трава
овечьих быстрей поколений.
От скверного кофе шумит в голове,
а тут ещё дождь да дремота.
Как пишутся книги, не видно траве,
в которой не видно кого-то.
Все кролики очень боятся лисиц,
не менее, чем человека,
которому взор оторвать от страниц,
что Вию поднять своё веко.
* * *
Когда распадётся “Дозморов и Ка”
и существовать прекратит ДНК
за номером сто миллиардов один,
закроется недорогой магазин,
подвальная лавка, дешёвый лабаз,
который открыт для клиентов сейчас,
но мало рекламы, маркетинг дурной,